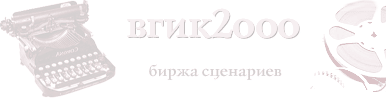
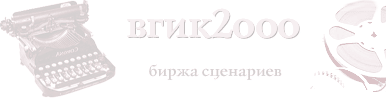 |
||||||
Осетинский ОлегВАЛЬС-ФАНТАЗИЯрусская элегия для кинематографа с оркестром
|
||
Действующие лица Анна Керн Александр Пушкин Екатерина Керн Михаил Глинка первые ноты вальса си-минор романс «Я помню чудное мгновенье» романс «Как сладко с тобою мне быть» «Прощальная песня» птичья комната и птицы липовая аллея в Михайловском липовая аллея в Екатерининском парке Палладиев мост Мойка, 12 Певческий мост Въездная арка Новой Голландии гранитный сход Зимней канавки Банковский мостик Скрипучая беседка в Китайской деревне Нестор Кукольник Петр Степанов, офицер-художник Владимир Одоевский Василий Жуковский Петр Вяземский Михаил Вильегорский Карл Брюллов Яков Яненко Константин Булгаков, офицер-певец Мария Петровна, жена Глинки Гейденрейх Людовиг, «доктор Розмарин» Рыцарь Коко Рыцарь Бобо Даргомыжский А.С. Арнольд Ю.К., композитор Николай I, царь Мария Кржисевич Струговщиков А. Розен. Е., немец Педро, испанец Статуи на Зимнем дворце И другие эпизодические лица
Три ноты!
хрустальных упали... Еще раз — три ноты! Они жаждали, звали, искали — п р о д о л ж е н ь я... |
||
Год 1825, нюнь, ЦАРСКОЕ СЕЛО Глинка валялся на полу в комнате с птицами; ручной соловей сидел у него на руке; Глинка смеялся, бегал на четвереньках; отряхнулся, вышел из «птичьей», сел к роялю, взял три ноты. Фа-диез, фа, си... Попробовал дальше, но продолжения не было... Дверь входная хлопнула, вихрем явился Петр Степанов, высокий, ловкий, неотразимый. — Сочиняешь, барин? Ты кто есть, отвечай офицеру? — Глинка Михаил Иванович, титулярный советник, помощник секретаря в канцелярии путей сообщения. Мы, барин, мосты строить годные. С великими ухищрениями злобы! — Вот и строй мосты и дороги! А сочинять... как говорит твой бывший учитель Колмаков... Гм!.. «Сочинительство музыки, Мишель, есть склонность пагубная! Талант исполнения на фортепьяно и скрипке, кроме собственного удовольствия, действительно может доставить приятные и полезные знакомства, а от композиции, кроме зависти, досады и огорчений ничего не должно надеяться!». Ясно, барин? — Подинспектор Колмаков умножает дураков!.. — Глинка рассеянно ковырял палочкой в ухе. — Богомерзкая и человекопротивная твоя гвардейская физиономия!.. Мужской компании я, кроме присутствующих, конечно. — не люблю. Предпочитаю общество дам и девиц. А им мои сочинения нравятся, даже первый мой романс «Моя арфа», написанный еще до прошлогоднего наводнения... — Романс, стало быть, допотопный? Глинка кинул в него трубкой. — С огнем играешь, барин! Побью! — Меня?! — огромный Степанов захохотал. — Не силою, но ухищреньем злобы! И они со смехом обнялись. — Мишель, ежели ты действительно любишь общество дам, то должен учиться танцевать у Гольца! — Вальсы? Желаю! — Вальс — это вольность! Танец, как говорит Колмаков, — «почти непристойный! Танец сей, в котором, как известно... — ...поворачиваются и сближаются особы обоего пола... — подхватил передразнивать Глинка, моргая глазами и ежесекундно оправляя халат, — ...с возмутительной простотой и страстностью. В крайнем случае, вальс можно позволить танцевать со своей женой, и желательно — без свидетелей!». — Следовательно, будешь учить кадриль, котильон, и — мазурку! Извольте собираться немедленно! — Куда? Мне холодно! Я болен! Пусти! — Вам, барин, всегда или холодно, или жарко, или г р у с т н о, и зовут Вас «Мимозой», «Мишель-не-троньте-меня»! Одевайся! ...и в нарядной, как бонбоньерка, трехсветной зале, Глинка выделывал франтоватые па в обществе молодых людей в трико... |
||
...и когда они вышли — и очутились в Екатерининском парке у Палладиевого моста, и взошли на него, под солнышком жмурясь, стали смотреть на Чесменскую колонну и Грот вдали, — Глинка еще не мог отдышаться, говорил почти шепотом, задыхаясь: — Как там — у Пушкина? Я только что прочел новую главу «Онегина»... — ...дашь мне потом! уже распродали в лавке! — ...дам, напомни!... «Бывало, когда гремел мазурки гром, В огромной зале все дрожало, Паркет трещал под каблуком. Тряслися, дребезжали рамы»... — Ну да, тогда были в моде подковки! — ...«дребезжали рамы; Теперь не то: и мы как дамы, Скользим по лаковым доскам»... Уф, жарко! Солнышко!.. Они созерцали сияющее озеро, драгоценный мрамор колонн, чему-то блаженно улыбаясь, жмурясь, рассеянно, как во сне. — Пушкин тоже танцевал в Одессе, — и, говорят, еще как! — Где он сейчас? — Глинка жмурился под солнышком, таял. — В фамильном поместье, под Псковом где-то... бедняга, там, небось, не потанцуешь! Зато «Онегина» читаем! — Ему сейчас двадцать шесть — так? а мне двадцать один!.. а ты слышал мой романс последний, на стихи Баратынского? Они сошли с Палладиевого моста, направились по дорожке над озером... — «Не искушай меня без нужды»...— напел Глинка. — Потом спою. Жарко. Некоторым нравится... — они стали перед скамьей. — Василий Андреевич Жуковский сказывал, что вот эта скамейка любимая Пушкина была, когда он в лицее учился. — Ну что с того? Посидим? Они сели на скамейку. Степанов хитро глядел на Глинку. — Ничего!.. я тоже открою землю, и обо мне будут печатать в газетах — так я в детстве говорил сестрице! Пушкин... — А я создам русскую музыку! И истинно русскую оперу! — Боже! Похвальбище! Опомнись, мимоза! Тебе не жарко? — Степанов захохотал. — Все говорят, кстати, что ты вылитый Онегин! Сегодня прием у Олениных, потом будет представление на Черной речке. Будем шалить и изображать приведения! И будет много хо-ро-шеньних — обещал Сережа Голицын, он же Фирс. А ночи еще — белые! Готовься! Да мы! — Пустое, барин! Попа церковью не испугаешь! — важно надув щеки, Глинка поднялся. — «Что знал он тверже всех наук? Что было для него из млада... — ... и труд, и мука, и отрада!.. — ...Была наука страсти нежной, которую воспел Назон!...». — Так, мосье Онегин! — Степанов сиял. — Значит, Вам уже не жарко? — Нет! — И не холодно? — Нет! — И не г р у с т н о? — Нет! Даже не г р у с т н о! — Ну! — Степанов развел руками. — Чья заслуга? — Небось, не твоя! Пушкина! Александра Сергеевича! Они хохотали, сгибаясь до земли от смеха; редкие прохожие оглядывались на них... сияло Царское Село... |
||
Год 1825, июнь, ТРИГОРСКОЕ Ночью за окном дома Осиповой в Тригорском горели свечи, и в раме окна-картины различались простые волшебные профили; ясно слышались волшебные голоса. — Да, редко ты, племянница, нас навещаешь! Скучновато здесь раньше было, но теперь мы все оживлены... Знаешь, кто здесь рядом? — Здесь Пушкин! — не выдержал девичий голос. — Это какой Пушкин, тетушка? Который за мной ухаживал — так открыто — у Олениных... да, лет шесть тому? Этот, маленький? Который теперь «Онегина» печатает? — Да-да, тот! Но он совсем не маленький, фу! — Он все время вспоминает тебя! Ты его поразила! — Все время вспоминает: «Она была божественна»! Ах! — Как он здесь оказался? — Он сослан... за стихи... и живет в Михайловском родовом поместье... он же потомок Ганнибала. — ну этого, арапа Петра Великого! — Он сейчас один, с няней своей! Родители вчера уехали! — Хочу его видеть! Сейчас! Можно? — Что ж! Все прогуляемся! Зизи, Аннет, Алина — собирайтесь! |
||
...и — с шумом, с факелами, в двух каретах, а ближе к Михайловскому — прыгнув из них — подбежали к дому, стали стучать! Открылась дверь, приведение в длинной рубашке смутно забелело в проеме. Голос невидимого Пушкина был хрипловат, с зевком: — Славно! Ничего не вижу! Уберите факел! Зизи, это твое лицо... как... — «...как эта глупая луна на этом глупом небосклоне». — Зизи восторженно смеялась. |
||
— Александр! Одевайся! Тебе сюрприз! Видишь? Анна Петровна сделала шаг вперед; ее лицо сияло в лунном свете. — Э, нет! Луна сегодня вовсе не глупа! Хвалю луну! Люблю луну, когда она освещает такое лицо... Анна Петровна?! Пушкин скрылся в дому, послышался шум падения... Все двинулись шумной толпой к саду... и уже несколько притихли, когда в сад выскочил Пушкин. — Милый Пушкин! — сказала Прасковья Александровна. — Покажите же, как любезный хозяин, Ваш сад госпоже Керн. Пушкин, невидимый лицом, быстро подал руку Анне Петровне. |
||
Луна, липовая аллея, ночь, блики, ветви, шорохи... Фигуры мужчины и женщины видны смутно, а голоса слышны — то ясно, то неразборчиво... — Благословляю Ваш приезд!.. Шесть лет! Думал, что никогда не увижу. — Теперь я буду часто в Петербурге. Светится волшебное лицо Анны Петровны... Их руки — вместе... — Петербург! А я здесь... Бешенство скуки меня просто пожирает... Даже горчицы нет, рому нет, уксусу нет! — Ха-ха-ха! — Смеетесь!.. Книг нет... Соседи-помещики ездят, я от них черным ходом — и на жеребца: прослыл Онегиным, самым что ни на есть! Отец обвиняет в атеизме, что я, мол, сестру и брата развращаю... что я его убить хотел! — Бедняжка Пушкин! — Бедняжка и есть! А море!.. вспоминал, чуть не задохнулся! — А я две недели как с моря, из Крыма! И ехала, с ужасом думала — Опочка, уезд, деревня, какое-то Тригорское, тетка... Ха-ха! Не смешите меня Пушкин!.. Это гелиотроп? Как пахнет! Можно я сорву?.. И они шли меж липами в аллее, и шептались уже... И начинало уже светлеть, и они шли медленней, и туман полускрывал фигуры, и шепот ее слабел в тумане. — Как пахнут!.. Ваши липы... никогда не было такого запаха... никогда!.. не смешите меня, Александр Сергеевич!.. Александр... о, нет!.. какой запах!.. он сведет с ума!.. как я сюда попала?.. вы опасный волшебник, вы устроили мне представление... почему липы!.. мне плакать хочется... я хочу стихов... я сломаю ногу!.. и буду всегда без ноги!.. не смешите меня, разбойник!.. о, разбойник!.. мы сошли с ума?.. эта аллея... так никогда не было!.. больше не будет... о, как они пахнут, так нельзя, нельзя!.. почему я плачу?.. Александр!.. Пушкин... идите сюда!.. |
||
А утром, когда любезная, но уже спокойно рассеянная Анна Петровна сидела в карете, прибежал, запыхавшись, Пушкин, с невидимым, конечно, нам лицом, растолкал без церемоний провожающих, быстро прыгнул на ступеньку кареты, протянул Анне Петровне книгу. — Вот, вторая глава «Онегина». В лавке не купите! Еще не разрезана. — Автограф есть? — Анна Петровна скрыла зевок. — Нету. Прощайте! — Почему? Как жаль!.. Странно!.. — недовольно, капризно начала Анна Петровна. И вдруг замолчала, потому что из книги выпал «вчетверо сложенный почтовый лист бумаги». Пушкин хотел спрыгнуть, она удержала его рукой. — Это — мне? — и опять умело скрыла зевок. Пушкин молча кивнул, невидимый лицом. — Почему же не посвящено? Просто к «К...»? К кому? Пушкин молча пожал плечами, не в силах говорить. И. развернув листок, медленно, тихо, даже как бы недоумевая, слабея к концу голосом, Анна Петровна прочла:
Анна Петровна как бы даже поморщилась, сопротивляясь; зябко повела плечами, бросила взгляд летящий, косой на Пушкина — он стоял внизу, невидимый (мы видим только Анну Петровну, в упор, до зрачка, до хрусталика, до нежного уголка рта) — и ровно продолжала:
Анна Петровна теперь старалась читать очень строго, сухо, но голос не слушался ее, взлетал, пропадал: она читала это — впервые.
Она дочла, прерываясь дыханием; оглядела все вокруг, как в первый раз смотрят на незнакомую местность; уставилась каким-то странным, будто ничего не выражающим взглядом вниз, в невидимое для нас лицо Пушкина; из глаз ее быстро, четко, брызнули слезы, сбежали по щекам; и, судорожно вздохнув, вся волшебно изменившись, она растерянно, чуть слышно пролепетала: — Я... могу взять это? Правда? Она еще держала листок в руке, быстро открыла другой рукой шкатулку; но вдруг рука Пушкина выхватила у нее листок... «...когда я собиралась спрятать листок в шкатулку, он долго на меня смотрел, потом судорожно выхватил и не хотел возвращать; насилу выпросила я их опять: что у него промелькнуло тогда в голове, не знаю». ... рука Пушкина дрожала; он колебался; Керн смотрела на руку неотрывно, потерянно, сглатывая; было слышно дыхание их обоих, ее старательно сдерживаемое, его — шумное, резкое, судорожное! Вдруг рука Керн медленно накрыла его руку; разжала ее, преодолев сопротивление пальцев, и спрятала листок не в шкатулку, а в нагрудную маленькую сумочку, висящую на цепочке; и тихо сказала: — Они будут при мне всегда... И Пушкин спрыгнул, и кони рванули, и карета скрылась... |
||
Год 1836, ПЕТЕРБУРГ Отгремели последние слова хора и колокола финала «Ивана Сусанина», ликование народа в Кремле. Император в ложе захлопал. Бешено захлопал весь зал!.. Глинка, бледный, кланялся, выйдя на сцену вместе с актерами, державшими его за руки. |
||
Днем, у Капеллы, на Певческом мосту, его ждал Степанов. — Ну что, к немцам, выпьем пива? У меня три часа, а потом в казармы, к смотру готовиться. Или к Дюме — пообедаем? — Какой! — Глинка вяло махнул рукой. — Домой... Нет, не пойду. И пить не хочу. Вечером в концерт, у Энгельгардта в зале. Бетховена играть будут. Девятую симфонию. — Ну, прогуляемся!.. Они подходили к Академии Художеств. Глинка жаловался: — Читал статьи Булгарина? Ох! Ах! Он пишет, что моя опера — какое-то попурри! — Подумаешь! Я знаю, что билетов не достать! А Гоголя — читал? «Опера Глинки есть прекрасное начало»! — А песенку слышал? «Есть Обер и Мейербер, Их усыпали цветами. Но, однако ж, например, Есть и Глинка между нами. Родился он на Руси, И по этой-то причине, Будь хоть ангел в небеси, — Не сравняется с Россини»! То-то! О, внимание! Академик живописи. Карл Павлыч Брюллов!.. Знакомьтесь: Петр Степанов, мой родственник. Рисует на меня карикатуры. Карл Павлыч торопился. Рядом с ним стоял краскотер с целым ворохом кистей и красок, и прочего для живописи. — Я тоже на него рисую карикатуры!.. Идем со мной! — сказал Брюллов Глинке. — Я иду в большую мастерскую на «Осаду Пскова». Недели на две, — и, повернувшись к другому своему сопровождающему, Струговщикову, он торопливо сказал: — Александр, присылай мне, пожалуйста, по две чашки кофе, по два яйца и по тарелке супу. — А цыпленочка? — Можно и цыпленочка! — Брюллов торопился. — Как ушел от жены, так не разу еще не ел по-человечески, а в рестораны не хожу. Пошли, Мишель! Адью, Александр! Надеюсь на тебя! |
||
Они вошли в огромную мастерскую, со множеством горящих свечей и фонарей. — Ого! Огня ты не жалеешь! — Освещение казенное... — с удовольствием пропел Брюллов. Пользуюсь широко. Грех не пользоваться! Освещение и убранство мастерской были «великолепны, изящны и роскошны». — О! Моя любимая картина! — сказал Глинка, увидев «Последний день Помпеи». — С большим ухищрением злобы! Смотри. Петя!.. Сам ты невелик, Карлуша, как и я, а замыслы огромадные! — Дан лез арт иль фо фэр гранд! — сурово ответил Брюллов. — Ты сам-то что замышляешь? — Новую огромадную оперу! — Ага... оперу!.. на вот тебе!.. — и протянул Глинке мигом исполненную карикатуру с надписью: «Глинка, замышляющий новую, чудовищную оперу». — Как я тебя отпечатал?.. Ты сюжет неистощимый! — Так! — командовал Брюллов краскотеру. — Сюда! Растирай вот эти! Как надоел мне этот климат! Хочу в Италию! И еще это! Смотри! — он показал на Исаакиевский собор в окне. — Зачем эта мрачная месса в нашем мрачном климате? Белый, с золотыми маковками, букет к небесам был бы лучше!.. Брр! Мрак! Нет, в Италию, в Италию! Там прошлое человечества, там и будущее! Недаром по-русски анаграмма Рима есть мир. — А я считаю, что будущее мира — это Россия! Про Москву что сказано? Третий Рим. А четвертому не бывать. Талантливей русских нет никого! — Не говори! Один Чичиков чего стоит! А Собакевич! А Манилов! А Ноздрев! А Скалозуб! А Молчалин!.. — Так ты что, не веришь?.. ты против!.. — Ничего я не против и во все верю! Я сам русский патриот! Вот, смотри, за что взялся! «Осада Пскова»! Вот сюжет для оперы! Нравится эскиз? — Очень нравится! Ты велик. Карл! — Мерси! Вот тебе к вопросу о русской талантливости! Я сам русский. Видишь, сколько эскизов? И все недоделаны! Эскиз нравится? Ой, сомневаюсь, чтобы у меня хватило терпения довести его до уровня «Помпеи»! Вдобавок к нашей русской лени, неумению и нежеланию доделывать, еще сам процесс живописный меня бесит! У меня половина картин не кончена! Тебе хорошо — сел, написал, — и пойте, играйте! А здесь пишешь маслом, вдохновение есть, а потом надо холст сушить, сушить, сушить, а пока он сохнет, мысль хладеет... Боже, почему я художник, а не композитор! — Ха-ха! Не смешно, барин? А певцы, публика, музыканты, критики, которым медведь на ухо наступил, вся закулисная мука?! О, Боже, зачем я не художник! Они захохотали, а мы разглядывали эскизы, портреты... — К тому же краски столько стоют! Ужас! Моя мегера меня потому и оставила: скуп, говорит, все деньги на краски тратишь! Чудовище! Как я был слеп! У тебя как дома? — Прекрасно. Я счастлив. Моя жена меня понимает. — Счастливец! Любимец богов! А моя... Помнишь, у Пушкина: «Я. уважая русский дух, Простил бы им их сплетни, чванство, Фамильных шуток остроту, Пороки зуб, нечистоту. И непристойность, и жеманство. Но как простить им модный бред И неуклюжий этикет!» Боже! где были мои глаза! Абсолютно чужая душа!.. Мишель, ты где? — Я здесь... — Глинка стоял в углу, опустив голову, ковыряя концом ботинка пол. — Ну, не будем тебе мешать! Держись! Запирайся и посетителей не пускай! Он подошел к роялю; задумчиво взял три ноты... — Да, не пустишь их! В окно влезут! — вздыхал Брюллов. — На тебе еще карикатуру: «Глинка в размышлении о судьбе»! А, смеешься! Это хорошо, что ты смеешься! Значит ты понимаешь весь ужас своего положения! — Брюллов вошел в роль, сардонически хохотал, грозил пальцем. — Счастливчик! Любимец богов! Баловень судьбы! Дамский кумир! Кумирдам! Иди в мир салонов, пой романсы, оставь страдальца-труженика в его каморке! Иди — и через месяц приходи с новой оперой, — и я нарисую на тебя новую страшную карикатуру! |
||
— Ну, я забегу в казармы, и — может быть, поспею на концерт!.. Степанов, шутливо козырнув, исчез. — Я, пожалуй, прогуляюся... — и Глинка свернул за угол Сенной на Английскую набережную. Он шел, поглядывая на Кунсткамеру и на шпиль Петропавловки. блестевший в лучах низкого красного осеннего солнца. Проехала карета, остановилась. — Мишель! — из кареты выглянул невидимый лицом Пушкин. — Ты куда? Садись! — Я гуляю. Мне в концерт. Как раз прогуляюсь. — И я с тобой, пожалуй, пройдусь. Пушкин выпрыгнул, отсчитал извозчику мелочь, на бегу говоря — быстро, нервно почти лихорадочно: — Представь мои сегодняшние траты: яблоко пять копеек, булка десять копеек, извозчик — девяносто копеек! Долгов — сорок тысяч! Как жить? Царь в помещики уйти не дает, журналистикой заниматься невозможно! А надо таскать жену на балы, таскаться самому, содержать карету... Жизнь камер-юнкера Пушкина! Впрочем, ты теперь тоже придворный, директор Капеллы. Нас обоих взяли на короткий поводок! — Меня вызывают без конца, заставляют присутствовать на всех приемах, бракосочетаниях, тезоименитствах, концертах, сочинять музыку по случаю именин, присутствовать при всех богослужениях... — Глинка жаловался еще добродушно. — Я не могу, мои нервы не выносят такого количества шума, даже благозвучного! Я не могу вынести такое количество пения! — А я танцев! Ах! — Пушкин быстро вздохнул. — Стареем! Ну тебе-то стыдно, Мишель!.. На прошлой неделе собрались у Яковлева, на Фонтанке, годовщину лицейскую отмечать. Собрались в полпятого — в полдесятого разошлись! И сколько же нас было, представь? Семь человек! Петропавловская крепость приблизилась с той стороны, вырастала, темная, мрачная в тени... — Я видел Корфа, он говорил... — Ну да, он был, дьячок-мордан!.. Буффон, князь, медведь, Матюшка, Мясожоров и — все! Дельвиг умер. Большой Жанно сам знаешь где! Горчаков в Лондоне... Вспоминали лицейскую старину, Катеньку Бакунину. Потом я читал, — и до половины дойдя, забыл — слезы помешали! Да! «Все те же мы; Нам целый мир чужбина. Отечество нам Царское село»... Предчувствия у меня дурные. Письмецо вот сегодня получил, подметное!.. — Вам хорошо, у Вас хоть лицей был, а тут один, как перст! — Пожаловался Глинка. — Все разбрелись... А долгу у меня тоже... — В двадцать пятом году я в Михайловском платил долги книгами. — Пушкин отвлекся от мрачных мыслей. — Великопольскому. Экземплярами второй главы «Онегина». Эх, в деревню, капусту поливать — вот мечта!.. письма распечатывают мои, ничего по почте нельзя посылать! «Сходнее нам в Азии писать по оказии!» — На днях пароход пустят от Москвы до Петербурга... — Глинка хотел рассеять Пушкина. — За день — в Москве! — Как? Русь все-таки в Европе? Значит, это не ошибка географов? Прекрасно! Поеду к Нащокину!.. — и, не в силах отвлечься от каких-то мыслей, Пушкин пробормотал: — «Смертный час наш будет светел, И подруги шалунов Соберут их легкий пепел В урны праздные пиров!» Ладно! Ты меня прости за мрачность: мать похоронил. Цензура статью мою о Радищеве зарубила... и так далее! Бог с ними! Хочешь сайку? И Пушкин бросился к разносчику, купил несколько горячих саек, облокотился о гранит, спиной к Петропавловке, протянул сайку Глинке. Они стояли, жевали сайки — и Глинка улыбался, с восторгом глядя на Пушкина. Пушкин строго прочел:
Глинка задыхался от смеха, прижимал руку к сердцу! А Пушкин строго продолжал:
И Пушкин вдруг резко бросился к проходившим молодым аристократам-щеголям: — О, князь! Не хотите сайку? А Вы? Свежая! Юные денди в белых перчатках, с ужасом глядя на Пушкина, устремились вперед чуть ли не бегом. — Мы их шокируем... не с нашим платьем в калашный ряд! И Пушкин предложил сайку проходящему генералу со свитой. — Сайки! Горячие! Угощаю!.. Смотри, бегут как от чумного! — Пушкину стало, наконец, весело. — Да не смотри на меня комом, смотри россыпью, — как няня моя говорила! О, чопорная моя отчизна! Нет ничего скучнее теперешнего Петербурга! Вообрази, даже простых шалунов нет! Никто не кормит кашей бюст императора! Никто не меняет местами вывесок! Квартальных некому бить! Все запуганы! Мертво все! Тебя я шокирую?.. — и Пушкин мигом перешел в тон серьезный: — Так ты про оперу говорил? — Так и есть. Я хочу писать на твой сюжет, по твоей поэме «Руслан и Людмила»! Глинка прямо взвился. — Помоги с либретто, невозможно больше доверять всяким Розенам! |
||
— Помочь?.. ну что ж! — Пушкин опять стал рассеян. — Помогу!.. Не Руслану, так Людмиле... Миле... Люли... Люли! «Все нули, нули, нули! Ай люли, ай люли!» Смотри, Мишель, какая ножка! Да!.. «Могу ль на красоту взирать без умиленья. Без робкой нежности... — ...и тайного волненья»!.. — добавил, улыбаясь Глинка. — А я теперь здесь ведь живу, в Капелле, на казенной квартире. Так что мы теперь рядом — вот Ваш дом, вот мой! Соседи! |
||
Они стояли на Мойке, у Капеллы. — Да, мы рядом! — у Пушкина менялось настроение каждую секунду, он не мог сосредоточиться. — »...И подруги шалунов»!.. У дома Пушкина они остановились. Было уже темно, зажигали фонари. Глинка смотрел на Пушкина с обожанием. — Ну, прощай. Глинка! Пойду на Машку смотреть, ей завтра полгода! У тебя нет еще детей? — Увы... — грустно покачал головой Глинка. — Увы! — Ладно, милый мой! — Пушкин поцеловал Глинку. — Прощай! Играй, пой, сочиняй! Бренчи на наших струнах, покуда мы не рассохлись... О, спички серные, новое изобретение — видал? Держи, дарю! Новый Год — у Одоевского! И Пушкин стремительно исчез в арке, махнув рукой... Растаяли три ноты... |
||
Из окон экипажа Глинка, хохоча, высовывался, оглядываясь на пять крытых телег, на которых певчие — и взрослые, и совсем дети. Они пели веселую украинскую песню... Уже золотился впереди шпиль Петропавловки... Карета проезжала мимо мастерских Брюллова. — Стой! — крикнул Глинка. — Поезжайте в Капеллу. А я зайду к Карлу Павловичу. Он открыл дверь мастерской, втащил за собой Артемовского. огляделся удивленно. — Карл, ты где? Карл Великий! Академик! Что у тебя так темно? Перестали оплачивать освещение? Я певчих привез с Украины — чудо! Такие были приключения! Никто не откликался. В мастерской почти не было света, окна были завешаны черным. Брюллов спал лицом вниз на грязном коврике, рядом стояли пустые бутылки. Глинка покачал головой, шепнул что-то Артемовскому. — Академику Карлу Брюллову, великому живописцу России — многая ле-та! — чудовищным басом возгласил Артемовский. Глинка восхищенно закрыл глаза. А когда открыл — на него в упор смотрел проснувшийся Брюллов. Смотрел молча, прямо в глаза. — Карл, проснись! Ты видишь, какое чудо я вывез из Малороссии. Знакомься: Семен Степанович Гулак-Артемовский. И как композитор подает большие надежды. — Миша... — с усилием сказал Брюллов, пожав руку Артемовскому не поднимаясь с коврика. — Миша, я вижу, ты не знаешь. Миша, Сашу убили. — Какого Сашу? — все еще улыбаясь, спросил Глинка. — .Александра Сергеевича... Александр Сергеевич один был в России... — Брюллов смотрел прямо в глаза Глинке. — Был. Теперь нет. Вчера скончался. Глинка нелепо улыбнулся; хитро взглянул на Брюллова: тот молча смотрел на него: потом отвернулся и стал смотреть в окно; Глинка растерялся, оглянулся; сказал неуверенно, вдруг охрипнув: — Не надо!.. так... шутить! Мастерская обрушилась на Глинку с каким-то лязгом, грохотом это были до неузнаваемости искаженные, еще как бы утробные, нечленораздельные, невнятные, скрежещущие — первые трагические аккорды из будущего «Вальса-фантазии» си-минор! — Отпевание утром. И не в Исаакиевском, а в Конюшенной... |
||
И пошел мягко снег, крупными хлопьями, у Конюшенной церкви. — Во блаженном успении вечный покой подай, Господи, усопшему рабу твоему Александру, и сотвори ему вечную память!.. Со святыми упокой, Господи, раба твоего Александра и подай ему жизнь вечную, бесконечную, идеже несть ни печаль, ни болезнь, ни воздыхание! Женщина в черном платке крестилась, вытягивая голову, чтобы увидеть Пушкина, но не могла, лицо Пушкина было недостижимо, как всегда... она незаметно вынула из нагрудной сумочки белый листок, мы увидели слова: «Я помню...», незаметно поцеловала листок, спрятала его в сумочку... И под тихое пение «Аллилуйя!..» увидела за гробом — туман! |
||
...Две фигуры, одетые предрассветным туманом, уходили по Липовой аллее, уходили навсегда... |
||
Глаза Анны Петровны были огромны, чудовищны, безумны! |
||
Уходили мужчина и женщина двадцать пятого года в конец аллеи, стихали шорохи, пенье птиц, нежный, дождевой всхлип поцелуя... |
||
Глинка быстро шел по набережной Мойки, никого не замечая. Он шел под мягко падающими хлопьями снега и тихо шептал что-то... Пошатываясь, как пьяный, он стоял против арки Новой Голландии, слезы прекрасно блестели в его глазах... |
||
Он стоял на Певческом мосту смотрел на окна дома Пушкина... Он стоял перед черным входом, на котором на бумажке было от руки написано: «Пушкин»... И почти беззвучно шептал: — «Смертный час наш будет светел, И подруги шалунов, Соберут их легкий пепел»... Он стоял, глядел на картон; вышел дворник, осторожно отодрал бумажку, закрыл дверь... |
||
Он стоял, глядя на Петропавловку... впившись взглядом в то место на парапете, на которое облокачивался совсем недавно Пушкин, и качал головой: — Как же ты, Александр Сергеевич? Зачем?! Он рассеивался, слезы высыхали; он еще укоризненно, в бреду, качал головой, а губы уже сами собой шевелились:
А голос Пушкина быстро закончил:
И губы — против его воли! — сложились в улыбку, и он, вдруг, присев почти до земли, захохотал; ему было стыдно, он огляделся жалобно глазами, — и, не в силах с собой сладить! — захохотал снова, так что прохожая старушка перекрестилась... А Глинка, приседая, крутя головой, кусая губы, смеясь сквозь слезы, и руки его, держащиеся за парапет, — дрожали!.. |
||
А во двор Капеллы он вошел медленно, спокойно. Яков открыл ему дверь, с опаской взглянул в лицо. Но Глинка был спокоен... Он сел к роялю, взял тревожащие три ноты. Еще раз... Еще... Тут вошла жена — непричесанная, в халате, с чубуком в зубах, жующая при этом кусок рыбы. — Михаил Иванович! — начала она довольно спокойно. — Нужно лошадь покупать новую. — Деньги все у Вас, покупайте, — бесстрастно бросил Глинка. — А что случилось? — Пала из четверки одна лошадь. — Зачем покупать новую? Оставьте лучше пару, чем возиться с четверкой. — Что? — жена мгновенно подбоченилась, побледнев от гнева, — я не купчиха, чтобы ездить на паре! — О, Господи... — пробормотал Глинка. Потом умоляюще взглянул на жену, — Машенька! Хватит ссориться! Разве ты не знаешь, у меня горе, у всех русских горе! Умер Пушкин! Давай хоть сейчас не ссориться, заключим перемирие... так неожиданно! — Подумаешь, неожиданность! Глупость! Все поэты, музыканты, актеры так кончают! |
||
— Глупость? — Глинка сжал губы. — Ну что ж! Все, говоришь? У каждого свои основания. А тебе, Марья Петровна, я вот что скажу: я умней Пушкина быть не желаю — и не могу! — но из-за жены своей головы под пулю не подставлю. Вот-с, как хочешь! — Никто не просит! — раздосадованная до крайности независимым тоном мужа. Марья Петровна взбеленилась. — Другие головы найдутся! А Вас, любезный супруг, я предупреждаю, что такое отношение я больше выносить не в силах! Смотрите! Глинка кашлянул — и, сдерживаясь, сказал: — Послушай, Маша. О каком отношении ты говоришь? Я, получая от матушки семь тысяч ассигнациями, сверх того в Капелле две с половиной тысячи рублей отдаю все деньги тебе, оставляя себе самые ничтожные суммы на мелкие расходы. Подарки царские, перстни, бриллианты, передаются тебе незамедлительно. Хотя в конюшне стоят отличные лошади и новая карета, щеголяешь ими ты, я же, при моем здоровье, тащусь пешком или на дрянном извозчике. Обо мне в доме никто и никак не заботится, кроме Якова. Вы совершенно не пытаетесь доставить мне никакой радости, никакого понимания. Блистаете, как лилия и роза. Вы только в свете! Дома же являетесь, простите, хуже дворовой девки! Я терплю Ваш чубук, Ваше халдейство, Вашу неопрятность, постоянную вонь из Вашего рта и прочих мест! Я терплю Ваше дикое невежество, Ваш эгоизм. Ваш дурной характер, смиряюсь с недостатками Вашего воспитания, с Вашим вульгарным тщеславием! И все это за что? За то, что я нечувствительно увлекся Вашей миловидностью и показной ласковостью до брака? — Увлеклись — вот и платите! — выйдя из остолбенения, с ненавистью выговорила Марья Петровна. — Никто Вас не неволил! — Да, верно, сам виноват! Я и плачу! Но есть же пределы! Я не ангел! Судьба моего друга великого, меня многому научила! Нет, нельзя доводить дело до крайности! Вы совсем распоясались! Мало, что мне хамите, так Вы моей матушке, которая Вам сделала столько подарков и которая обращалась с Вами чрезвычайно ласково, хоть Вы не имели ни состояния, ни воспитания... Вы моей матушке, когда она приезжала в Петербург, пока я был в Малороссии! Вы, вместо того, чтобы угождать ей и лелеять ее, Вы отняли даже необходимые мебели из нанимаемой ею комнаты! Остановитесь, говорю Вам! Глинка был в бешенстве но, видя, что он быстро успокаивается. Марья Петровна нашла нужным расставить все по своим местам: — Так! Михаил Иванович! Вот что! Если Вы меня не любите... — она выждала паузу, подчеркивая значительность последующего, — ...и еще раз скажите что-нибудь подобное оскорбительное, я Вас оставлю — и весь свет против Вас восстановлю, до императора дойду! Так и знайте — оставлю! И будете тогда стоять на коленях! Глинка молча смотрел в пол. |
||
Яков укладывал Глинку в постель, дал понюхать валерьянки. Вздохнул: — Эх, Михаил Иванович... говорил я! — Что ты говорил, дурак? — вяло возражал Глинка. — Ты и говорил, два года назад, что, мол, ребенок, всему научить можно, а внешность ангельская самая. Говорил? — Говорил... — сокрушенно пробормотал Яков. — Так ведь... — Ну и молчи теперь! Где материн подарок, образок? — В шкатулке... Яков ушел, Глинка залез под одеяло. Из-под одеяла донеслись приглушенные рыдания... Потом они стихли, но Глинка продолжал ворочаться... Встал, зажег свечи. Достал из шкатулки материн образок и — пушкинские спички. Чиркнул одну спичку — и смотрел, как она горит... |
||
А рано утром, когда весь дом еще спал, Яков стоял над Глинкой и шептал: — Михаил Иванович! Михаил Иванович! Проснитесь же! Встаньте, подойдите к окошку! Глинка, не открывая глаз, подошел к окошку. Все-таки открыл глаза, увидел: ...из легких санок вылезли Марья Петровна и высокий молодой офицер. Прощальный поцелуй — и Марья Петровна побежала к дому... |
||
Яков сокрушенно вздыхал. — Мы уж молчали... да вот Катя Шулевина. горничная Вашей супруги, наша смоленская говорит, что... — Замолчи! — в бешенстве крикнул Глинка. Походил по комнате. Начал быстро переодеваться. Быстро бросил в шкатулку образок, спички, запонки. Быстро отдавал приказания: — Слушай меня! Всем моим людям крепостным, оставить сию квартиру и ехать к матушке. Из мебелей выпороть шитье моих сестер. Веши, подаренные мне друзьями и близкими, собрать. Книги, ноты — в сундучок. — А мебели? Карету? Бриллианты, матушкой подаренные?! — Мебели, карету, бриллианты и прочее — оставить. Теперь, пойди к Марье Петровне и отдай эту записку. Он быстро написал: «Марья Петровна! Причины, о которых я считаю нужным умолкать из брезгливости, заставляют меня расстаться с Вами. Молю провидение, да сохранит Вас от новых бедствий. Михаил Глинка.» Протянул Якову, остановил его: — Да, прибавь на словах, что я буду выдавать ей половину моих доходов! Яков исчез; Глинка быстро одевался, упаковывал письма, ноты. Яков вернулся смущенный. — Ну что? — спросил Глинка. — Что говорит? Яков развел руками, опустил глаза. — Смеется... а матушка ее велели передать, что, мол, обратно только на коленях чтоб Вы просились! — Хорошо. — Глинка казался спокойным. — Оставайся здесь. Я перееду к Степанову Петру, там меня и найдешь, как здесь управишься. |
||
Глинка шел по Зимнему дворцу, его догнал чиновник. — Михаил Иванович! Государь император велел Вам передать, что он был совершенно недоволен пением, бывшим сегодня при утреннем служении... и велел Вам сделать строгое замечание и объявить, что буде такое впредь случится, будут приняты строгие меры. — Что? — Глинка вспыхнул, закусил губу. — Также велено Вам присутствовать сегодня на обручении дочери его величества Марин Николаевны, где будут петь итальянские артисты Поджи, и велено Вам исполнить программу с певчими. Место Ваше на хорах, с музыкантами. Велено Вам также сочинить музыкальный номер на приезд его сиятельства графа... Глинка не слышал ничего, кусая губы... |
||
Они с Брюлловым шли по переулку. — Я было бросился к Степанову, а он на ученьях. — Идем, идем, увидишь всю братию, там и поселишься! И автора там себе найдешь для «Руслана», если Нестор не захочет! Милая, талантливая братия, аристократов там презирают, всю эту чернь начальствующую! — Из-за этой службы у меня совершенно времени сочинять... Чуть что — зовут в Капеллу, даже и без всякого повода! Князь Львов меня мучает всякими пустяками, портит моих певчих, которых я уже порядочно научил! Ну и год выпал! — Да... — саркастически крутил головой Брюллов. — «И всюду страсти роковые, и от судеб спасенья нет!..» О, женщины! — Здесь двери не закрываются! Ты подожди, раздевайся, а я пройду вперед, предупрежу! Глинка остался в небольшой прихожей, заваленной шапками, шубами. Раздеваясь, он слышал за дверью оживленный разговор, смех, пиццикато на скрипке. Он сел, закрыл глаза. |
||
— Дворянин — это не тот, кто тратит все, что он получает, а тот, кто тратит больше, чем он получает... — Не откладывай на ужин то, что можно съесть за обедом, говаривал Александр Сергеевич... — «Милославский» дрянь, а«Рославлев» еще хуже! Чего надобно нашей публике — это Выжигиных господина Булгарина! — Разошлись тысячи экземпляров! Да-с! — Ах! Ведь подумать, сколько есть писателей, которые пишут романы, повести, и даже поэмы... а могли бы ограничиться простыми донесениями! — А читали у Баратынского? «Братайтеся, к взаимной обороне ничтожностей своих вы созданы. Но дар прямой не брат у вас в притоне, Бездарные писцы-хлопотуны!» — Бесконечные подражания! Прав Пушкин: «Самостоянье человека залог величия его»!.. |
||
Брюллов вышел в прихожую. Взял Глинку за руку и ввел в большую комнату, в которой было очень накурено, стоял большой стол, уставленный подсвечниками и бутылками, небольшой черный рояль и огромный диван, тянувшийся по трем стенам и уходивший еще в темную комнату. На диване лежали и сидели с десяток мужчин от двадцати пяти до тридцати пяти лет, и несколько молодых оживленных дам. Все, улыбаясь, поднялись со своих мест. Глинка растерянно улыбнулся. — Позвольте Вам представить моего друга, Михаила Ивановича Глинку! — Брюллов эффектно вывел Глинку на середину комнаты. И тотчас сидящий за роялем Нестор Кукольник ударил по клавишам, и все хором запели:
И Глинку мигом усадили за стол, и все мигом переселились с дивана за стол, на высокие стулья, и Брюллов, встав рядом с Глинкой, начал торжественно представлять «братию». — Позволь тебе представить всю братию. Нестор Кукольник, хозяин. Поэт и драматург, метит в Шекспиры! Большой ценитель твоей музыки и, кроме наличия чуткого уха посвящен и в сухое таинство контрапункта!.. — В отличие от меня... — пробормотал Глинка, — и был награжден смехом и аплодисментами. — Его брат, главный комендант братии, Платон. О нем — позже. Видишь, какой он огромный! Прозвище имеют братья Кукольники — Братья Клюкельники!.. Догадайся, почему! Наливайте, господа, в честь новоприбывшего! Далее — академик исторической живописи и скульптур Яков Яненко... на визитных карточках его значится французскими буквами почему-то «месье П.Яненко», из чего некоторые неверно произносят его фамилию так: «месье Пьяненко». Виночерпий, Форкшнейдер и маркитант. Жену имеет англичанку. Подражает пиццикато всех струнных инструментов. Яков, покажи! Яненко вдруг «пронизал Глинку пиццикатами»... — Далее! — Брюллов был в ударе. — Доктор императорских театров Людвиг Гейденрейх. по кличке «Розмарин» или «розовый доктор». Он тебя вылечит от всего! Вот он, в углу! Глинка повернулся и увидел сидящего за шахматным столиком, смущенно улыбающегося, добродушного немца. — Людвиг, прочти стишок Нестора про себя! Людвиг, вздохнув, начал с акцентом читать стишок «про себя»:
И все присутствующие хором закончили:
— Далее... — продолжал демонически Брюллов. — Николай Федорович Немирович-Данченко, по прозвищу Коко... — ... рыцарь Коко! — поправил его Кукольник. — Совершенно верно — «рыцарь Коко»! Чем занимается — никто не знает. Говорит, что служит в каком-то комитете. Всеобщий любимец, потому как спит всегда! И хор под управлением Кукольника проникновенно, задушевно спел:
— Далее мы наблюдаем Владимира Иванивича Богаева, он же «рыцарь Бобо». Трудится в департаменте почт, работу берет на дом, не отходит от конторки до утра. Взгляните! Глинка взглянул на молодого чиновника; он, действительно, корпел над конторкой, с улыбкой грозя пальцем Брюллову. — Про него известно, что он влюблен в одну вдовушку, и на вопрос Нестора «где был?», «что делал?» он отвечал: «Был влюблен. Не делал ничего». Глинка смеялся вместе со всеми... — Рыцарь Бобо на вопрос Лоди, за что он любит вдовушку, ответил как истый малоросс. Лоди, что он ответил? — Брюллов задал вопрос только что вошедшему. — Смотри, як она мыло улибается! Глинке было уже тепло, весело, мирно, он чувствовал себя в семье, среди друзей, улыбался, смеялся, уже кому-то что-то рассказывал. — И, наконец, Андрей Петрович Лоди, чиновник особых поручений. Мечтает петь в опере. Он — всегда «на минуточку»! Брюллов сделал знак, и мужской хор согласно спел:
Все шумели, чокались и веселились. Яненко тащил из буфета бутылки, Платон пироги и жареного поросенка. — Ты будешь жить вот на этом диване. — сказал Брюллов. — Здесь у каждого свое место. Чужих мест не занимать! Платон, покажи Михаил Ивановичу его место! Платон, наморщив лоб, подумал — и показал на место, уходящее в темную комнату. И объяснил: — Там темно... и можно мечтать... — Платон здесь всех заставляет работать, — лукаво поглядывал Нестор на Глинку. — Меня он заставляет писать стихи и повести, а Карла — наши портреты. — Ну, вот! — сказал Брюллов, смеясь. — С главными членами братии я тебя познакомил, с остальными познакомишься позже. Допускаются гости и дамы, доступные изящным искусствам! Вошел с лукавой улыбкой высокий молодой офицер. — А, вот еще один всеобщий любимец! Известный сорвиголова, сын почт-директора, шалун Константин Булгаков, по кличке «контрабандист», — поскольку он принадлежит к кружку аристократа Соллогуба, все у нас вынюхает, коварный лазутчик!.. — А это, Костя, автор любимых тобой романсов — Михаил Глинка. Булгаков поклонился Глинке до полу. И вытащил из заднего кармана брюк ноты. — Ноты Ваших романсов всегда со мной! — Господа! — пробасил Платон Кукольник. — Все к столу! — «Ехал чижик в лодочке, В бригадирском чине. Не выпить ли нам водочки По этой причине!» — пропел, потирая руки, Яненко. — Господа! — тихо сказал Брюллов. — Минута молчания в память Александра Сергеевича. И все вмиг замерли, и, не чокаясь, все выпили. — А теперь будем веселиться — в память Александра Сергеевича! — крикнул Брюллов. — Надеюсь, мы не оскорбляем его памяти нашими непритязательными шутками, нашей простой жизнью, без вычурностей, реверансов и ханжества! Он не любил никакой чопорности, презирал эту нашу ложь проклятую! «Герой, будь прежде человек!» — вот что он писал! Давайте веселиться! Верстовского! И все запели: Чарочки по столику похаживают!.. |
||
Глинка валился с ног от смеха — так комично пели застольную Яненко, Лоди и Булгаков. А когда прозвучали слова — «...думаю, подумаю, идтить ли за него!..» — которые Яненко спел пиццикато и пиано, Глинка чуть не заплакал от смеха. Вошел человек, которого мы видели с Брюлловым. — А вот еще один член братии! Струговщиков Александр. Издает журнал. Балуется стихами, — глубокомысленно наморщил брови Брюллов. — Вот сколько здесь поэтов, выбирай для либретто. Саша, кстати, тоже кончил благородный пансион, как и ты. — Неужели? — Глинка вскочил. — Но позже меня, потому я Вас не помню! А учитель логики у Вас Колмаков был?! — А как же! — засмеялся Струговщиков. — «Наш учитель Колмаков Умножает дураков: Он жилет свой поправляет... — И глазами все моргает!»... — подхватил Глинка и, совершенно развеселившись, показал как моргает Колмаков, обдергивая при этом жилет. — А как он начинал Вам логику преподавать? — «Философию можно понимать как науку или как способность. — показал Струговщиков. — Как науку...» дальше не помню, но и это хорошо! Все хохотали. Глинка воспрял совершенно. — Если бы воскрес Иван Акимович, и был бы здесь, что бы он сказал? — Глинка заморгал и начал обдергиваться. — «Глинка, новый Орфей, продолжай услаждать слух гармонией... Жизнь коротка... мудрый, пользуйся жизнью... Добрый хозяин всегда имеет в запасе: бутылку на столе — две под столом... Разумей об этом тот, кому ведать надлежит», — Глинка засмеялся. — Правда, ведь так? Все восторженно зааплодировали. Глинка был принят. А Брюллов подвинул к Глинке лист бумаги, сардонически усмехаясь. — Вот тебе еще карикатура: «Глинка, страдающий от неверности жены». Яков втаскивал сундук в комнату братии. Вынул огромные листы нот, положил на рояль, а часть приколол на стену, объяснив Кукольникам: — Мы с Михаил Иванычем так любим писать... |
||
Глинка смотрел из Зимнего дворца на Петропавловскую крепость; прошел по коридорам... Занимался с певчими, рассеянно глядя в окно... Уже темнело, когда он шел по Английской набережной, поглядывая на Петропавловскую... |
||
И было совсем темно и безлюдно, когда он снова стоял у Капеллы и смотрел в окна своей квартиры. Потом Глинка поднял воротник и пошел вдоль Мойки. Снег падал все гуще, прохожих совсем не было... Глинка стоял, облокотившись на парапет набережной, смотрел на дом Пушкина. В дом въезжали новые жильцы, разгружали мебель! Въезжающие въехали. Кареты отъехали, окна погасли... Глинка закрыл глаза... А когда открыл, увидел: разглядывая номер дома Пушкина, близоруко щурилась в неверном свете фонаря высокая девушка в коротенькой шубке. Так и не разглядев номера, она обернулась, поискала глазами — медленно подошла к Глинке. Он увидел ее глаза совсем рядом. И услышал тихий голос: — Простите, сударь... тот ли это дом, где жил Пушкин? — Да! — сухо сказал Глинка — и отвернулся. — Тот самый. Только теперь здесь уже живут дети графа Бенкендорфа! — Простите, если я,.. — и девушка отошла. — Так быстро? II стала смотреть на дом, то отходя, то подходя к нему. Вошла в глубокую арку; исчезла; снова появилась. |
||
Глинка стоял недвижно, мрачно. И, когда девушка оказалась рядом, он неприязненно, почти зло спросил: — Разве вы не знали раньше этого дома? — Я только приехала, — не поворачиваясь, ответила девушка. — Три года я не была в Петербурге. И вот — приехала... Невольно Глинка сделал шаг, и они стояли уже рядом. Прошли в арку. — Из этой двери выносили, — тихо сказал Глинка. — Да, я хотела это знать!.. — благодарно шепнула девушка. Молчали, и молчание было томительным, долгим... Глинка вдруг закашлялся, согнулся. Девушка обернулась, подошла ближе, увидела: слезы на щеках. — Вам дурно? Вы больны? О, простите!.. Глинка, надрываясь от кашля, тем не менее, не мог удержаться от обычного своего иронического смешка. — Я болен всегда, пустяки! Меня так и зовут: Мишель, которому всегда или холодно, или жарко, или грустно... А сейчас все сразу... Да... «Там, где дни облачны и кратки. Родится племя, которому умирать не больно»... Последнее двустишие Глинка произнес по-итальянски, и девушка просто сказала: — Я не знаю итальянского. — Это Петрарка, — объяснил Глинка. — «Там, где дни облачны и кратки, Родится племя, которому умирать не больно». Да!.. «не больно!..» «Могилы его в нашем городе нет, но кровь его в городе нашем!»... Девушка взглянула ему прямо в глаза — искренне, доверчиво, внимательно. Покачала головой, соглашаясь. — Мне сегодня один знакомый сказал,.. — вытирая слезы, сказал Глинка, — что Мицкевич вызвал в. Париже Дантеса на дуэль. Девушка вздохнула. — Теперь уже,.. — тихо сказала она. — Чем это поможет?.. Он жил, как поэт, умер, как человек. Помните? «Герой, будь прежде человек!.. — ...Чувствительность бывала в моде И в нашей северной природе. Когда горящая картечь Главу сорвет у друга с плеч — Плачь, воин, не стыдясь, плачь вольно!».. да-да!.. умер, как человек!.. все сейчас спорим, и я сам с собою спорю, и все: нужно ли ему было драться с этим ничтожеством? стоили они? я мучаюсь с ответом — каждый день по-разному... — Нужно быть им, чтобы за него решать! — сказала она просто. «Герой, будь прежде человек»!.. И еще, помните, — «Оставь герою сердце! Что же он будет без него? Тиран...» Не глядя на нее. Глинка пробормотал: — Удивительно, как Вы понимаете... Вы три года отсутствовали за границей, верно? — Нет. Я жила с отцом в Смоленске. — В Смоленске? Я сам Смоленский! — Глинка взглянул на девушку. — То есть, из-под Смоленска. Она мягко улыбнулась. Тихо сказала своим странным голосом: — Это тоже удивительно... или нет? Глинка взглянул на нее в упор — медленно. — Но у Вас нет выговора! — Неудивительно. Ведь до этого я кончила Смольнинский институт. Благодарю Вас за... то, что Вы были здесь! Прощайте, сударь! — И я Вас благодарю,.. — растерянно начал Глинка. И не успел опомниться, как девушка исчезла... |
||
А у Кукольника уже пировали! Вовсю, по-гвардейски! За столом сидели офицеры-преображенцы и вся братия. — Преображенцы! — закричал Кукольник. — За здоровье Глинки! Все подняли бокалы с шампанским, чокнулись с восторгом. — Ура! Ура! Ура! Невольно улыбаясь, Глинка покачал головой. — Знакомься! — хохотал Кукольник. — Этот интересный молодой человек, Саша Каменский, явился с Кавказа с солдатским Георгием в петлице и одержал две кавказские победы в Петербурге: одну над редактором «Литературных прибавлений», господином Краевским, который заплатил ему за первую повесть пятьсот рублей! И другую — над дочерью Фифа Толстого Машенькой, которая до этого отказывала всем! Каков Кирджали?! — Женюсь! — строго сказал кавказский герой. Вошел слуга, протянул Кукольнику конверт с билетом. — Так... билет пригласительный... «Знаменитая пробка известного берлинского штофа, извещая с душевным прискорбием о кончине его, последовавшей на прошедшей неделе впотьмах, просит пожаловать на его поминки в квартиру Якова Яненко у Семеновского моста, на Фонтанке, со внесением на похоронные расходы двух рублей». Внизу приписка: «А я буду пить одно Шампанское вино»! Н. Маркевич. Кто этот Маркевич? Друзья! Все на Фонтанку! Быстрота и натиск! Преображенцы, вперед! И через несколько секунд в комнате остались Глинка, рыцарь Бобо за конторкой и рыцарь Коко, храпящий на диване. Глинка подошел к роялю, задумчиво взял три ноты. И тут в дверь протиснулся скромный человек в облепленном снегом пальто. — Здравствуйте! Я Ширков, Валериан Федорович... Нестор сказал мне... Насчет либретто к «Руслану и Людмиле»... — Да-да! — Глинка бросился к нему. — Вы так вовремя! Я уже придумал первый акт, теперь нужно текст. И обязательно я хочу ввести песню Баяна, посвященную памяти Пушкина. Последние строчки есть: «Но недолог срок На земле певцу, Но не долог срок на земле: Все бессмертные — В небесах». Музыку я уже сочинил. Давайте работать!.. |
||
Глинка шел из Капеллы по уже привычному маршруту. Заглянул в окна бывшей квартиры... Прошел к дому Пушкина, облокотился на парапет, стал ждать... Шел по коридорам Зимнего, за ним — Певческий корпус... Стоял в церкви на обедне... Стоял против квартиры Пушкина... Писал ноты на стене квартиры Кукольника... Братия беззвучно пела что-то за столом... Глинка опять шел мимо своей бывшей квартиры... Медленно подошел к дому Пушкина... И стал ждать... Он был весь уже залеплен снегом, когда заметил еще на Певческом мосту ту самую девушку в короткой шубке. Она приближалась... И сама подошла к Глинке. И тихо сказала: — Добрый вечер! — Добрый вечер!.. — Глинка тщательно маскировал волнение. — Как Ваше здоровье? — улыбнулась она. — Вам жарко?.. холодно?.. грустно? — Сказать правду? — Глинка повернулся к ней. — Немного холодно, немного жарко — и не грустно! Отгадайте! — Ну, это сложно дли меня,.. — улыбнулась девушка. — Вы каждый день приходите сюда? — они прошли в арку. — Да, — сказал Глинка. — С того дня — каждый день. А раньше я просто жил рядом. А Вы... с того дня не были? — Нет. Я далеко живу. — Вы... живете с родителями? С матушкой? — Нет... — девушка почему-то засмеялась. — Я живу одна. Я служу воспитательницей в Смольном институте. Классной дамой. Они взглянули друг на друга — и вдруг рассмеялись. — Да, невозможно себе представить строгость на Вашем лице! Глинка смотрел в ее глаза; она не отводила взгляда. Почему-то шепотом он сказал: — Пойдемте вдоль Мойки? Вы любите гулять? Я покажу Вам одно волшебное место, любимый мой пейзаж под снегом... Вы, надеюсь, меня не боитесь? — Вы странный человек,.. — медленно, задумчиво сказала девушка. — И что ж? — Но мне эта странность... — она улыбнулась ему прямо в лицо... — Мне — не страшна. Она меня радует, — просто сказала девушка. — Ведите к Вашим волшебствам. Только не в гости и не в ресторан. — Помилуйте! — Глинка даже растерялся. — Как это можно? Так познакомиться — и сразу в какие-то гости! Фу! |
||
Они брели вдоль Мойки, и был слышен смех, и негромкий разговор... Остановились перед украшенной снегом и луной нереальной декорацией Новой Голландии. Девушка вдруг перелезла через парапет и, спрыгнув на лед, пошла к арке. Оживленный Глинка спрыгнул к ней. — Приятно, когда есть о чем поговорить с дамой!.. — Глинка еще не уловил перемену настроения. — И когда есть о чем помолчать,.. — кротко добавила девушка. Они стояли и молча смотрели на волшебную романтическую картинку — луна в арке, муаровые разводы серебрящегося снега. — А теперь хотите, я Вас сведу в свой любимый уголок? — она стояла совсем рядом, Глинка слышал ее дыхание. — Только это не близко. — Сударыня! — с веселым возмущением Глинка подхватил ее под руку. — Я молодой человек. Мне только тридцать пять! — А мне уже двадцать,.. — вздохнула девушка. — И меня зовут Екатерина Ермолаевна. — А меня — Михаил Иванович. |
||
И вот они дошли до Зимней канавки, и смотрели вниз на гранитный сход к воде, ко льду. — Вот мое любимое,.. — сказала Екатерина. Постояли, посмотрели. — Из такого рода сходов мне еще нравится сход у Банковского мостика, на канале! — Глинка кашлянул. — Знаете? И они прошли по Банковскому мостику с его крылатыми зверями в снегу, спустились на лед. Глинка сиял. — Чудесно гуляем! Я не гулял так... никогда! Давайте завтра так же гулять? — Вы дитя!.. — девушка покачала головой, улыбнулась. — Ну, послезавтра! — Нет... — голос ее дрогнул. — Ни завтра, ни послезавтра. — А когда же? Ведь... — Никогда, — она сказала это просто. Взяла его руку без перчатки, которую он снял, показала на кольцо. — Вы женаты. А я девица старомодная. Как пушкинская Татьяна. Мне было так хорошо, и я... я боюсь привязаться! Вот это так, теперь оставим... Глинка замер на разлете фразы, как вкопанный; опуская голову все ниже; вдруг закашлялся еще сильней. Она бросилась к нему. — Вам нужно ехать домой. Вы простудитесь... чем Вам помочь? Я возьму извозчика! |
||
— Это я Вам возьму извозчика!.. — откашлявшись, вдруг жестко сказал Глинка. — А помочь Вы мне можете. Да, можете! — Чем?.. — Что ж, я простодушен. Скажу. Да, скажу! Я несчастен. Давно. Но... уже несколько дней, как я впервые забыл о своем несчастье. Если не увижу Вас более — буду несчастен вдвойне. Вот. «Я нынче должен быть уверен, что с вами днем увижусь я»! — и он вдруг схватил ее за руки, зашептал горячо, безумно! — Ну что делать, если я всегда говорю то, что чувствую, — и чувствую, что говорю?! Я увижу Вас завтра? Да? Ну скажите — да! Поймите, это... — он показал на кольцо... — Это — несчастье, теперь ничего нельзя сделать, я не могу сейчас объяснить! Но... Вы!.. Я не помышляю с Вами ни о чем материальном, но Вы первая женщина, с которой я могу разговаривать и чувствовать согласно! Нет диссонанса, наше общение — музыка. Вы же сами чувствуете! Я вижу в Вас... человека! Не смейтесь, но это так странно! Вы не понимаете, как я сейчас живу, — и что для меня значит наша встреча. Ваш голос. Ваши слова!.. эти мгновенья для меня драгоценны!.. нет, это не случайная встреча!.. нас бог свел у Пушкина!.. — он почти задыхался, он прижал ее руки к своей груди. — Только не бойтесь, я не сумасшедший... но я должен Вас видеть!.. Ошеломленная страстной горячностью Глинки, она поколебалась, глядя прямо в его глаза и — отрицательно качнула головой. — Нет... нет! — Не говорите этого страшного слова! — Глинка закрыл глаза, шатаясь. — Я прошу... хотя бы один раз! одну встречу!.. последнюю, я обещаю! обещаю после этого не просить Вас более!.. И он замолчал, и опустил руку ее. — Хорошо!..— сказала она.— Мне холодно... Послезавтра, в восьмом часу... Извозчик! — она махнула рукой — и скрылась!.. |
||
Он ввалился к Кукольнику, не раздеваясь, сел на диван. Дым шел коромыслом, как всегда, к нему кинулись с шампанским, он отмахнулся, глядя поверх всех, на свои ноты, огромные листы нотной бумаги, прикрепленные к стене... Присел Гейденрейх, деликатно спросил: — Мишель Иваныч, порошков не дать? — Нет, Людвиг... — Глинка заставил себя улыбнуться. — Соллогуб напечатал неизвестные прежде стихи Пушкина... — он протянул Глинке журнал. Глинка рассеянно открыл журнал... Братия веселилась, с шумом ввалились «дамы, доступные изящным искусствам» — вместе с Булгаковым... Глинка читал стихи, расширив глаза... |
||
Страшная погода! Жуткий ветер, вьюга, бешеные порывы над пустынным огромным Петербургом! Пробегают, зажав рты и завязав головы, одинокие прохожие! Свистит ветер, ревет! Хочет сдуть фигурку в короткой шубке, замерзшую у дома на Мойке. Ждет Екатерина, близоруко вглядываясь сквозь вьюгу... Ждет... и — уходит... И у самого моста нагоняет ее отчаянно торопящаяся тень! — Екатерина Ермолаевна! Простите, часы... как ужасно! Девушка была настроена решительно. — Я пришла. Это наверно нужно? Погода! И я должна... — Да-да, сегодня нельзя гулять. Я хочу... я задержу Вас на несколько минут... я сочинил Вам романс! То есть, сочинил музыку на стихи Пушкина... и посвящаю Вам! — Спасибо! — Екатерина еле сдерживалась, чтобы не расхохотаться. — Вы и музыку пишете? Вы же сказали, что Вы по строительству мостов. Спасибо, но я не стою музыки, ни, тем более, стихов Пушкина! — Что Вы сказали? — кричал сквозь вьюгу Глинка. — Я не расслышал!.. Екатерина Ермолаевна!.. я знаю, что вижу Вас в последний раз! я сейчас спою Вам этот романс! — Мишель! Вы с ума сошли! Вы простудитесь! — Нет, подождите! Я должен спеть Вам это! — Но не здесь же? — Здесь... слушайте! — Вы — безумец? безумец!.. ну, пойте!.. ничего же не будет слышно! И она наклонилась к Глинке, и он приник к самому ее уху, и своим разбитым хриплым тенором, в реве метели, на Певческом мосту, прерываясь, задыхаясь и останавливаясь, грея рот варежкой — запел: |
||
— Я помню чудное мгновенье... |
||
Хриплый, еле слышный сквозь свист и рев, прерывающийся от смертельного волнения голос был слышен — тихо, но явственно над... |
||
...Марсовым полем и Михайловским замком... над Биржей и над Петропавловской... над Исаакием и над Медным Всадником... над мостами... над статуями Зимнего дворца... над каналами... над церквами — и Конюшенной, чтоб различалась! — и над всем огромным бескрайним неодушевленным покинутым Петербургом летел маленький хриплый звук, зовя, призывая, клича!.. (Прием должен быть употреблен решительно, до конца: никаких крупных планов, никаких ужимок переживания); и когда закончил свое горячечное пение над ледяным склепом Петербурга хриплый голос, замерла камера на страшной высоте; вдруг стихли свист и рев! — и! ... |
||
...Из глаз Екатерины Керн, как когда-то из глаз ее матери, в абсолютной тишине, — только двойное разное дыхание — (как тогда) будет слышно... — брызнули слезы! И Глинка, задыхаясь, уже оберегая горло, со слезами своими вечными на глазах, — прошептал: — Теперь можно Вам ехать, — и показал смутно чернеющую в метели карету. — А это Вам — ноты. — Вы — гений?.. — тихо спросила Керн. — Музыка Ваша гениальна, но знаете ли Вы?.. знаете ли Вы?.. — она задохнулась, отодвинулась вдруг от Глинки — какого-то сразу поникшего, измятого, кутавшего горло... — что стихи эти написаны Пушкиным моей м а т е р и! Прощайте!.. Эти ноты я буду носить с собой всегда! Храни Вас Бог! Прощайте! И вдруг, поклонившись Глинке, она побежала в метель... |
||
Глинка вошел, медленно разделся, сел на диван. Братия сидела за столом, Нестор Кукольник дирижировал:
Громче всех смеялись Булгаков и Яненко. И тут ввалился небритый, заросший щетиной Брюллов: — Я картину кончил!.. Поесть мне дадут здесь? — и шампанского! Мишенька, ты что невесел? — Я влюбился... — сказал Глинка тихо, но все услышали. И — замолчали. — Это, конечно, большое несчастье! — со смаком произнес Брюллов, раздеваясь. — Но выражение лица в таких случаях обычно у пациента самое как раз веселое!.. а что же твой предмет — взаимностью не хочет отвечать? — Мой предмет... — сухо сказал Глинка. — Дама высоких понятий, и несмотря на... в общем, не хочет меня видеть, поскольку я женат!.. Я несчастен, развода никогда не получить. Развод дается только в случае прелюбодеяния, а как его доказать? Марья Петровна хитра! Да, я стал посмешищем салонов, не могу нигде показаться! И обречен при этом на вечное одиночество! — Ну, положим, утешиться всегда можно... — сказал Булгаков. — М-да!.. — Брюллов сел за стол, поглядел на Глинку и начал рисовать карикатуру. — М-да!.. И тут вошел Яков, слуга Глинки, весь в снегу. — Барин! Михаил Иванович! Честь имею Вас поздравить! — С чем? — Глинка вяло удивился. — Марья Петровна... замуж вышла! — с шекспировским выражением сказал Яков. — За конногвардейского офицера князя Васильчикова. — Ты что, братец? — Глинка усмехнулся. — Яков, ты в своем уме? Как же она могла... кто же их обвенчал и где? — В Ополье... — обиженно сообщил Яков. — А повенчал их поп-расстрига, за пьянство от обязанностей отставленный. Того попа случаем нашел в Петербурге сам Васильчиков, увез Марью Петровну с ним в Ополье, и ночью их тайно расстрига повенчал. Во-первых, сторож видел в окошко, как свечи венчальные зажигали, он же ключ давал от церкви... а во-вторых, столь много денег Васильчиков дал попу тому, что тот на радостях устроил великое пьянство и сам проговорился. А местный священник возьми и донеси в полицию. А полиция — в Синод! Так что я в своем уме! — Яков был еще обижен. — А горничная Елизавета вот пачку писем того Васильчикова доставила мне... тут без сомнений! Все молчали, переглядываясь, не знали — смеяться или плакать; даже рыцарь Бобо оторвался от конторки, качал головой, а рыцарь Коко проснулся. — Молодой это Васильчиков? — тихо осведомился Глинка. — Так точно, молодой, — пробасил Яков. — Бедняга!.. — пробормотал Глинка. — Он не знает, что его ждет... Давай сюда письма этого Ромео! И, вдруг вскочив на ноги, Глинка, сияя, закричал: — Ура! Виват Марья Петровна! Будь счастлив, князь! Теперь уж мне дадут развод! Ура! Где мое вино сантуринское? Ну-ка, порукодельничаем! Все к роялю! Вдохновляйте меня! Ах, Колмакова нет! Он бы сказал: «Все по науке; Васильчиков-то князь, егозка. полагать надо, изъяны барыням немаловажные чинит! Говорю и повторяю... — Глинка заморгал глазами, обдергиваясь, и заговорил сильно на«о», выжимая из себя каждое слово: — девы се есть бич, ниспосланный небом на мужни людстии. Сказал — довольно!» И, сев за рояль, Глинка пронзительно запел: — Когда в час веселый откроешь ты губки... Хочу целовать, целовать, целовать! И тут вошел Петр Степанов, и Глинка вскочил, бросился к нему в объятья: — Петя! Поздравь! Она замуж вышла! |
||
Он быстро шел по коридорам Смольного, мимо институток и классных дам. И, наконец увидел Екатерину Ермолаевну... Она расширила глаза... сказала шепотом: — Боже мой! Как Вы жестоки ко мне! Вы хотите погубить мою репутацию! Вы — гений, а я всего лишь бедная классная дама! Вы знаете наше общество! Меня лишат места сразу! — Я предлагаю Вам руку и сердце, — сияя, почти пропел Глинка. — У меня есть неоспоримые доказательства для развода. Это вопрос нескольких недель! А чтобы видеться с Вами до развода и скрыть причину моих посещений, я буду заниматься с хором Смольного института и оркестром... |
||
Три ноты звучат... и еще раз — три н о т ы!.. и вот — зазвучала четвертая нота из будущего вальса, четвертая верная нота — ре... |
||
Глинка стоял в низком темном сводчатом зале; на столе горели свечи. Из-за стола поднялись двое, сухо представились. — Столоначальник протоиерей Дмитровский. — Секретарь Безверхний... Они сели, и секретарь протянул Глинке бумагу. — Извольте подписать — подписка о невыезде. Во время слушания дела в Консистории истец обязан являться сам... Так! К своему заявлению какие доказательства присовокупляете? |
||
— Сведения о незаконном совершении брака... и письма князя Васильчикова к моей жене, из которых следует... — Незаконное совершение брака расследуется Святейшим Синодом параллельно нашему делу-с. А наше дело есть расследовать другие доказательства прелюбодеяния. Письма оставьте... Распишитесь! — Скажите... сколько это может занять времени? Неделю, две? Столоначальник и секретарь переглянулись. Секретарь скрипуче рассмеялся: — Первое судоговорение назначается через месяц, на восемнадцатое июня... И они бродили с Екатериной Ермолаевной, счастливые, по майскому Царскому Селу, иногда нечаянно касаясь друг друга, — и расходясь в стороны. — Мишель, как началась Ваша музыка, расскажите мне? — Екатерина Ермолаевна танцевала на парапете перед Большим дворцом. — Очень просто. В детстве я играл на стиральных тазах. А потом, в пансионе, страстно любил зоологию. Птицы и тазы — вот с чего началась для меня музыка. Он все пытался взять Екатерину Ермолаевну за руку, но она не давалась... — А для музыки — с чего началась музыка? Вы должны меня просвещать, Мишель!.. Глинка шел за Екатериной Ермолаевной, влюбленно смотрел на завитки волос на ее шее и удивлялся: — Вам действительно интересно? Или так? Извольте... Они обходили Грот, и Глинка все пытался взять ее за руку... — ...До семнадцатого века музыки не было! И вдруг: «Да будет свет»! — как будто глагол свыше: Бах и Гендель! В одном году, почти в одном месте! Только с ними музыка стала равной живописи и литературе, Рафаэлю и Шекспиру... ... Они шли уже у игрушечного Адмиралтейства... Она слушала его. О, как она его слушала! заглядывая иногда в лицо и снова устремляясь вперед, — и слушала, внимательно и с радостью... — Они такие разные! Скромный кантор Бах и Гендель в большом парике! «Алонг парик»! Если Бах — собор, то Гендель — дворец... Понимаете, Екатерина, есть музыка, которая к нам идет, и есть музыка, которая требует, чтобы мы к ней шли. Первая — Гендель, вторая — Бах. Гендель — диатоника, Бах — хроматика... |
||
Глинка снова стоял в темной келье; свеча мигала... — Распишитесь здесь... Судоговорение сегодня не состоится. — Почему? — Ваша супруга больна. Вот справка о ее болезни. Следующее судоговорение назначается через месяц... |
||
И снова счастливый Глинка и его внимательная слушательница бродят по Царскому Селу... Входят на Палладиев мост... — Я написал сегодня для Вас вальс, — и Глинка спел четыре ноты, — Вечером сыграю. И «Руслан» подвигается хорошо. Уже третий акт скоро будет готов. Глинка сияя, смотрел на Екатерину Ермолаевну... обвел взглядом озеро. Прошептал: |
||
— ...«Нам целый мир чужбина ... — ... Отечество нам Царское Село»... — шепотом закончила Екатерина Ермолаевна. И спросила: — Так на чем мы застряли в музыке? После Баха и Генделя... — После Баха и Генделя... — Глинка норовил обнять ее, но Екатерина Ермолаевна отводила руку... — Музыка переселяется из Германии в Австрию, в Вену... После каменного Глюка... — ...Гайдн? — ...да, старик Гайдн... и — вечный юноша Моцарт, Гелиос музыки! На всем печать простоты невыразимой, непостижимой... от зависти к ней... — Глинка уже был серьезен, они шли по тропинке к девушке с кувшином, к Пушкинской скамье. — ... кусаешь пальцы, головой об стенку хочется биться!.. Вот слушайте, как спеть, как понять это: простой до-мажор... — и Глинка спел начало до-мажорной фортепианной сонаты Моцарта, десятой... — что тут кажется? А ведь здесь вся тайна жизни, все залито трепетом, светом!.. Послушайте! Понюхайте, как пахнет! — Глинка встал на цыпочки. — Липа! Это липовая аллея, еще при Ломоносове посаженная, при Екатерине! Как пахнет! С ума!.. Весной! Счастьем! Единственным этим листочком жить можно! Пойте, задыхайтесь, теряйте сознание! Александр это понимал! О, радость жить, расти, как трава, таять, как сосулька, гореть, как свеча! Эван, экое! Я во всем неправ! Катя! Я люблю Вас! Блеснули открытые губы Екатерины Ермолаевны, широко открытые глаза... |
||
— ...Значит, так... — Глинка влез в карету, в которой сидели Екатерина Керн и ее подруга. Говорила Екатерина. — Это моя подруга, Мария Кржисевич. — Если Вы хотите, чтобы я пришла к Вам в гости, то Вы будете ухаживать якобы за ней, а я буду при ней. — Боже! — Глинка комично воздел руки. — Екатерина Ермолаевна! К чему эта чопорность, эти тайны! Вы, такая умная, такая... Вы же презираете эти условности! — Что делать... — вздохнула Е.Е. — Я такая, какая есть. У меня тоже есть недостатки. У нас с маменькой разные характеры. Я чересчур щепетильна, но этого уже не исправишь. Итак, Вы согласны? |
||
Они едут втроем в карете, смеясь... Глинка все-таки недоуменно пожимает плечами, но Екатерина Ермолаевна улыбкой смягчает его... Они вечером гуляют по Царскому Селу втроем, и Глинка досказывает: — ...А после Бетховена и Шуберта теперь есть Берлиоз во Франции, Лист в Венгрии, Шопен в Польше... — ...и Глинка в России, — улыбается Екатерина Ермолаевна. — Да, начинается эпоха русской музыки! — Глинка останавливается. — Как я говорил сестре в детстве: «Я открою землю и про меня будут писать газеты...» — Хвастунишка! — Мария Кржисевич смеялась. — Неисправимый хвастун! Себя нельзя хвалить! Напишите мне тоже романс! — Я себя ругаю! — усмехнулся Глинка. — А романс я Вам. Мария, напишу. Пушкинскую «Мери» знаете? |
||
И опять он стоял перед столом и свечами. — Ваша супруга больна. Вот справка. Следующее судоговорение назначается... — Позвольте!.. — Глинка впервые начал нервничать. — А если она эти справки будет представлять еще год? — После третьего назначенного судоговорения вместо нея должен будет явиться ея адвокат. — Но расследование ведется? Священника допросили? Письма Васильчикова изучили? |
||
— Ведется, ведется... князь Васильчиков до конца следствия взят под арест на гауптвахту. Нами посланы запросы секретные в его часть. А сам он, повторяю, по Вашей милости — на гауптвахте,.. — и секретарь со значением взглянул на Глинку... |
||
Глинка вышел из кареты, протянул извозчику мелочь. И пошел вдоль набережной к Смольному. И вдруг почувствовал, что за ним следят. Повернулся — и увидел человека, который быстро отвернулся... Глинка вошел в подъезд института... Он дирижировал хором воспитанниц... и, как всегда, в зал незаметно заглянула Екатерина Ермолаевна. Он кивнул ей... |
||
Глинка вылез из кареты на Фонарном. Было уже темно. Глинка неожиданно оглянулся — и снова увидел человека, который делал вид, что смотрит на другую сторону улицы. Глинка пошел в проходной двор... быстро вошел в арку и — в боковой ход, в подъезд. Мимо него, быстро оглядывая, прошел соглядатай... Глинка выпрыгнул из подъезда и пошел назад... |
||
Братия совещалась. Все сидели за столом и были серьезны. — Васильчиков на гауптвахте, — Глинка оглядел друзей. — Ему грозит серьезное наказание, если брак будет доказан... самое малое по закону — разжалование и в солдаты. А то — каторга! — И ему, и священнику, и Марье Петровне! — Марье Петровне ничего не будет, она докажет, что ее Васильчиков склонил. — Господа! — встал Константин Булгаков. — Я не хотел говорить, но... самое страшное в том, что председатель совета министров — дядя Васильчикова... и обер-прокурор Синода, где будет решаться вопрос со священником, — тоже родственник Васильчикова!.. Все зашумели. Глинка закрыл лицо руками. И, отняв, медленно спросил Степанова: — Скажи, пожалуйста, Петр... имею ли я право держать солдата в передней? — ...? — Дело в том,.. — медленно и четко сказал Глинка... — что брак Марьи Петровны с Васильчиковым незаконный, понятно? — Понятно. — Но он станет законным, когда меня не будет! — Но этого не может быть!.. — Покойный император Петр Великий говаривал, что у нас может быть то, чего не может быть! — мрачно пошутил Кукольник. — Что ж, поедешь ко мне. — сказал Петр Степанов. — Будешь жить у меня в казармах. Думаю, что в казармах лейб-гвардии егерского полка, битком набитых военными посетителями, трудно будет совершить злой умысел. С переднего хода в мою квартиру только посредством колокольчика, а с черного, где всегда много людей, никого без доклада не пропустят... — Ладно, — сказал Глинка. — Поеду к тебе. Так... А что же с «Русланом» будет? Сейчас начнутся репетиции. А меня теперь каждый день в Консисторию гоняют эти следователи с дурацкими вопросами... из конца в конец города каждый день!.. Нестор, что же с арией Фарлафа, когда будет текст? |
||
Глинка стоял на сцене и рассматривал декорации — с ужасом. Певица запела: — Любви роскошная звезда!.. — Стоп! — Глинка закричал, замахал руками... — Я же говорил!.. Фа-диез! — Михаил Иваныч! — Яков шептал на ухо. — В Консисторию пора, на допрос... |
||
— ... напротив того. Ваша супруга заявляет, что Вы лишили ее средств к существованию и выгнали из квартиры... — Вот расписка ее о получении денег. Что касается квартиры, то она была казенной, а поскольку я отставлен от должности в императорской капелле... — ... в прошлый раз Вы сказали, что письма нашла Ваша горничная, а в позапрошлый раз... У Глинки слипались веки. Он зевнул и потряс головой. И спросил удивленно: — Когда же меня разведут? Ведь два года прошло уже! Признался же сам священник, что он совершал обряд венчания! — Сначала признался, а теперь утверждает, что совершал молебен в честь святителя Николая по просьбе двух неизвестных... а дьякон в Ополье показывает, что Вы приезжали в Ополье и подговаривали его и его жену сказать, что они видели обряд венчания... подговаривать духовное лицо к лжесвидетельству — нехорошо-с! Преступно! — Не был я в Ополье никогда! Каждый день мой на виду здесь! — Проверим! — А письма? Письма — не доказательство? — Письма есть доказательства косвенные! К тому же, Ваша супруга утверждает, что письма Вы ей сами подбросили! — Когда меня разведут?! — Вас? Не знаю. Пока подпишитесь. Ознакомьтесь с экстрактом Вашего дела. Вот!.. Четвертый том уже... семьдесят свидетелей — и все разное говорят!.. Завтра прошу явиться пополудни — обязательно! |
||
Глинка сидел в Екатерининском парке на скамье, против «Девушки с кувшином»... Сидел и ждал... Утекала вода из кувшина... Глинка ковырял прутиком песок и поглядывал на Палладиев мост. И вот лицо его озарилось улыбкой — он заметил меж колонн моста бледно-розовое платье... Мелькало бледно-розовое платье!.. прозвучали три ноты... четыре... пять. Оборвалось хрустальное «си» рояля... быстро, как всегда, волнуясь, спешила к Глинке Екатерина Ермолаевна, все такая же юная... Она стояла на одной стороне Рыбного канала, он на другой, и они комично размахивали руками, изображая невозможность быть вместе... И вместе гуляли они по парку... разглядывали, улыбаясь, Скрипучую беседку в Китайской деревне... И снова сияло солнце и весна... Но чуть попозже Глинка сидел на скамье, сжимая виски. — В репетициях — разброд... либретто на куски распадается... декорации ужасны... да, песню Баяна запретили за то, что я ее посвятил памяти Пушкина! — в глазах Глинки мелькнули слезы. — Брат мой умер. Андрей, скоропостижно!.. чудный талант был, шестнадцать лет!.. матушка больна!.. до развода еще!!. что делать?.. надо что-то делать!.. — Вы совершенно измучены, Мишель... — шептала Екатерина Ермолаевна. — Нужно отдохнуть и полечиться. — Я лечился... — Глинка был как во сне. — Я всю жизнь лечусь. Чем я только не лечился!.. но ведь надо знать, от чего лечиться! От чего же мне лечиться. Екатерина Ермолаевна? От любви к музыке? От любви к Вам?.. |
||
И снова Глинка стоял перед столом со свечами... И снова торопился к театру... И снова ехал в обратную сторону по Невскому... И впереди, над куполами, стояла улыбка Екатерины Керн... И снова он стоял перед столом со свечами... И келья следователей постоянно темнела, свечи гасли, злые насмешливые лица следователей искажались!.. И снова он ехал в карете... И впереди, в небе стояла улыбка Екатерины ... И лицо ее гасло, улыбка исчезала с горизонта!.. Глинка лежал в лихорадке, вздрагивал, вскрикивал... Яков возился с тазами... Гейденрейх ставил грелки к ногам, лед на голову... |
||
Брюллов водил его по мастерской, опять освещенной самым роскошным образом. |
||
— Я честно тебе скажу, я боюсь за «Руслана»... — Глинка кусал пальцы. — У меня сейчас осталась только любовь к Екатерине Ермолаевне... все-таки она меня любит как никто!.. А в братии я уже не вижу прежнего толку — шумно, пьяно, и как-то пустяково! — Да, мельчают ребята... и вина многовато!.. жаль Нестора, этак он быстро в тираж выйдет! А что касается твоей любви, Мишель... любовь для меня есть повод для карикатур... она так часто подрывается обидчивостью и недоразумением!.. вот, посмотри какую картину я задумал — главную картину моей жизни! Они остановились у огромного эскиза, и Брюллов, водя указкой, объяснял: — Картина будет называться «Всеразрушающее время». И тебе одному скажу... — Брюллов огляделся и перешел почему-то на шепот, сам усмехнувшись этому обстоятельству. — Я вздумал ее против Микельанджело! Знаешь его фреску «Страшный суд» в Сикстинской капелле? У него там в центре Христос-громовержец!.. Апофеоз смерти, крушения мира! У меня же на месте Христа — во весь рост, видишь, фигура времени, старик Сатурн с косой в руках! Он не упивается смертью, палитра будет яркая, многоцветная! — нет, он поет вечное обновление, он сметает все, что сегодня кажется незыблемым, неизменным! Да, это будет размышление о бренности, но размышление не безнадежное, как в «Страшном суде»! Невесело, конечно, улетать, но ведь и другим жить хочется! И это — главное! — мир, обновляющийся Сатурном! Смотри, старик косит и пихает в реку забвения все, что считалось великим на земле, о чем нам приказывают думать, как о незыблемом! Нет! Не будет ничего незыблемого, кроме времени и красоты его движения! Надо полюбить обновление! Расцвел — дай расцвести другому! Все силы власти, славы — все это временное, все сменится — и это прекрасно! Смотри, вот летят в Лету все законодатели и учителя древности: Ликург, Соломон с разбитыми скрижалями, Эзоп, Платон... у лиры Гомера струны порваны вот все религии летят в Лету, начиная с религий древности и кончая последней — магометанством; вот видишь, выше их — реформаторы; еще выше — философы и ученые, в самой середине их летит в Лету Ньютон со своей механикой, а с ним Галилей, Коперник и другие... а с другой стороны летят в забвение все власти мира: Александр Македонский, вот римские императоры, вот летит Наполеон, с головы свалилась корона, вот сибарит Сарданал, в ужасе за горы хватается — а горы падают! вот летят великие любовники Антоний и Клеопатра — в Лету их, в Лету! в Лету же летят и Свобода с фригийским колпаком на копье — и деспотизм, давящий ее тяжестью своего тела! Все летит в Лету! Все стареет и проваливается! Ничто не вечно! И чудесно! Вот мое отношение ко всем ценностям! Никакой лжи! И Брюллов, тяжело дыша, опустился на кресло. — Я согласен... — медленно сказал Глинка. — Многое, почти все, исчезает. Но искусство — вечно! Если б не было искусства, я не верил бы, может быть, в будущее блаженство: искусство и счастье, которое оно дает, есть прообраз будущего блаженства... — Чепуха! — Брюллов залился смехом, рисуя карикатуру на Глинку. — Какой вздор!.. На — дарю тебе последнюю карикатуру: «Глинка, рассуждающий о высшем блаженстве, в которое он не верит»! — Да ну тебя! — Глинка сердито двинулся к выходу. Брюллов догнал, схватил, вдруг прошептал: — Миша, не сердись! Я на днях уезжаю, предчувствие у меня, что не увидимся мы больше... хочу сказать напоследок: издевался я над тобой, смеялся над твоей чувствительностью; я привык жить умом, расчетом, а ты — чувством! Ты плачешь каждую минуту, я же, как утверждает Яков, плакал один раз в жизни! Но я тебе хочу сказать, что я тебя люблю одного... Ты живешь! Я — только мыслю!.. о тебе буду жалеть когда уеду! — Куда ты? — растерянно спросил Глинка. — Не знаю куда! Боюсь, что эту картину везде запретят. Вот... А карикатуру возьми — на память!... А «Осада Пскова» — не получилась! Пестрота, вздор! Ну, прощай! Глинка — «мимоза»! И на глазах Брюллова появились слезы... И тут в мастерскую вбежал Яненко и, тяжело дыша, прошептал: — Мартынов кто такой? Мартынова знаете? Он Лермонтова убил... На Кавказе. Как Пушкина, на дуэли. Кто такой Мартынов? |
||
— ...Какой же это замок Черномора? — Глинка чуть не плакал. — Это казармы какие-то! Что это за цветы — это гадость безобразная! А стол с яствами для Людмилы — это же какой-то кошмар! Это не декорация, а западня! Никакая актриса ничего здесь не сделает! А этот Черномор!.. — Глинка схватился за голову, упал на диванчик в боковой ложе... — Вильегорский все посокращал гадко! Хор поет так неверно, что я музыки своей узнать не могу! О, Боже! |
||
Друзья стояли рядом с Глинкой, не в силах его утешить. Вбежал Гедеонов. — Император прибыл! Сейчас начинаем!.. |
||
Публика расходилась из театра, садилась в кареты. Глинка стоял у колонны, в темноте, не видимый никому, и слушал опустив голову... |
||
— Император уехал после третьего акта... — А слышали, что сказал Великий князь? Что он будет посылать провинившихся офицеров вместо гауптвахты на оперу «Руслан и Людмила»! — Это полный провал!.. |
||
Глинка вышел из-за колонны, резко свернул за угол... За углом стояла Екатерина Ермолаевна. Глинка молча смотрел на нее. Она подошла к нему и обняла его. — Миша... — тихо сказала она впервые. — Я так люблю Вас. Я сделаю для Вас все. Все, что может женщина. И она поцеловала его — впервые в фильме... |
||
Глинка стоял в Консистории, слушал, что читает секретарь. — Таким образом, по совокупности всех свидетельств и фактов, совершение брака между Марией Петровной Глинкой и Васильчиковым Николай Николаевичем является недоказанным. Следовательно, канцелярия Консистории дело закрывает. Прошу расписаться... Глинка расписался. Тихо спросил: — Куда я могу жаловаться? — Вы можете перенести дело в Святейший Синод. Туда Вы не будете обязаны являться сами, можете адвоката присылать. — И... — Глинка с мукой прошептал... — Скажите мне, ради всего святого, отец благочинный, когда меня разведут? По секрету? — По секрету скажу... — столоначальник наклонился и, переглянувшись с секретарем, прошептал: — ...Пока будет жив князь Николай Николаевич Василъчиков, не будет Вам развода. И не будет Вам здесь покоя. Неужели же до сих пор понять не могли? |
||
Глинка стоял на том же месте, на котором стоял когда-то с Пушкиным, ощупывал взглядом место на парапете, которое Пушкин занимал... шептал: — «И перешедши мост Кокушкин, Опершись, ...хм-хм... о гранит!..» Он стоял, что-то еще шептал; вдруг на лице его сверкнула решимость, озарение; он быстро пошел... |
||
Глинка дирижировал хором в Смольном. Они пели из «Руслана»: «Ложится в поле мрак ночной»... Одна из хористок, воспитанница лет семнадцати, пела с особенным удовольствием, с восторгом поглядывая на Глинку. Он невольно задерживал на ней свой взгляд... Эту переглядку заметила Екатерина Ермолаевна... |
||
Они стояли во дворе Смольного; класс Екатерины Ермолаевны прошел в парк; восторженная хористка опять быстро взглянула на Глинку... — Я совершенно измучен, Екатерина Ермолаевна... — тихо сказал Глинка. — У меня явилась мысль, по-моему, счастливая. — Я верю, что Вы измучены, — сказала Екатерина Ермолаевна странным ровным голосом; и так же бесстрастно, спросила. — Вы меня больше не любите? — Я? — Глинка улыбнулся, пожал плечами. — С чего Вы взяли? — Я не хочу докучать и быть в тягость, — Екатерина Ермолаевна впервые была так нервозна. — Я видела, каким жадным взором Вы пожирали сегодня мою воспитанницу. Что ж, она моложе!.. — Помилуйте, Катя! — Глинка широко открыл глаза в искреннем ужасе. — Что Вы говорите? Вы для меня единственное близкое существо, кроме маменьки, в мире. Вы одна меня понимаете! Мои чувства к Вам пламенные и поэтические! Я доказал это тремя годами страданий! А воспитанница Ваша... это совсем другое! Это то, что Александр Сергеевич сказал: «Могу ль на красоту взирать без умиленья. Без робкой нежности и тайного волненья»!.. что ж тут можно поделать? Я ведь художник, и красота невольно сообщает мне волненье... эдак Вы меня ревновать начнете к цветам и к музыке!.. э, это ведь старая песня, это еще Марья Петровна меня к музыке ревновала!.. что с Вами, Катя? Ревность нам унизительна, она ниже нас, ниже моей любви к Вам! Они шли по парку. Екатерина Ермолаевна упрямо молчала. Глинка смотрел на нее со страхом и удивлением! Опустил голову, покачал ею. Навстречу бежали совсем маленькие дети. Глинка с нежностью взглянул на них. Остановился, взял за руку Екатерину Ермолаевну. — Екатерина Ермолаевна! Послушайте меня! Сегодня в разводе мне отказали. Екатерина Ермолаевна закрыла глаза, прижала руку к сердцу. — И дали понять, что развода не будет очень долго, до смерти Васильчикова, дай Бог ему здоровья и счастья с Марией Петровной... Екатерина Ермолаевна! Драгоценная моя! Нет выхода здесь и покоя! И музыке моей здесь плохо! «Руслана» поймут здесь через сто лет! Здесь есть жители, но нет граждан, как говорит Нестор! Им подавай все итальянское, любое, только не свое! «Руслана» оценили венгр Лист, француз Берлиоз да Проспер Мериме! Я пророк в своем отечестве — для трех иностранцев! Да еще для двадцати моих друзей! А театр пустой! В общем... царь на меня зол, что я Капеллу бросил... не будет здесь счастья!.. У нас с Вами один выход — уехать за границу, выждать, пока дело будет в Синоде рассматриваться! Ведь мне уже тридцать семь, я деток желаю! Я детей без слез видеть не могу! Уедемте отсюда! Екатерина Ермолаевна побледнела; покачала головой; прошептала: — Нет... это невозможно!.. мои родственники... моя репутация... да и Вам будет очень трудно... Ваша мать никогда не согласится!.. Нет! — Но Вы же сказали, что сделаете для меня все, что может сделать женщина?! — Да. Но этого я сделать не смогу. Я же Вам сказала: я дорожу своей репутацией... и Вашей! — «Что скажет княгиня Марья Алексеевна»? Да? А мне наплевать, что они скажут! Мне наплевать на мою репутацию у всех, кто меня не знает и не понимает! Нас же двое, Екатерина Ермолаевна! И так короток век! Не надо ревности! Не надо мнения родственников! Родственники это — бич! Мы заслужили счастье! Уедем за границу — там Вас никто не упрекнет, никто Вас не узнает! — Я не буду счастлива в положении Вашей содержанки и сожительницы. Понимаете ли Вы — это я, это моя натура?! — вдруг с отчаянием почти вскрикнула Екатерина Ермолаевна. — Слишком много я видела в нашем обществе легких радостей... слишком много знаю!.. Не хочу! — Екатерина Ермолаевна! Опомнитесь! Если Вы меня любите, поедемте со мной! Ведь сейчас не восемнадцатый век! Вы знаете, как я Вас люблю! — А люблю — так добейтесь развода, — тихо сказала Екатерина Ермолаевна. — Я подожду. Я буду ждать. — Но ведь!.. — вскрикнул Глинка; и шепотом добавил, опустив голову... — ведь силы наши не беспредельны! Я боюсь пасть духом. Я жизнью начинаю тяготиться! У всех на языке яд... Я задыхаюсь! У меня сумели отнять все, даже энтузиазм к моему искусству — мое последнее прибежище! Я измучен! Браки, разводы! У меня лихорадка! К черту! Вы едете со мной — или я для Вас меньше значу, чем Ваша репутация? — Вы значите для меня больше всего на свете... — с трудом сказала Екатерина Ермолаевна... — но я знаю, что мы не будем счастливы... я — не смогу!.. нет! Она вдруг закашлялась, наклонилась. Глинка бросился к ней. — Что с Вами? Домой? Я пришлю Вам Людвига! Эй, сторож!.. Бежал сторож, бежали воспитанницы... |
||
Глинка стоял среди птиц, играл с ними, разбрасывая корм. Закрыл птичью комнату сеткой, подошел к роялю. Взял три ноты... остановился. Взял с рояля письмо, перечитал; вздохнул. Открылась дверь, вошел Гейденрейх. — Мишель! — сказал он взволнованно. — Она больна тяжело. Мокроты еще нет, но возможно чахотка. Ее нужно срочно везти на юг. Возьми ее и поезжай с ней за границу. — Во-первых, моя маменька, которой я должен жертвовать всем, не хочет, чтобы я ехал с ней за границу... — желчно сказал Глинка. — Во-вторых, она сама не желает ехать со мной, не желая вредить моей репутации. Ясно? Маменька моя против нашей связи — репутация! О, репутация! У, репутация! В-третьих, я должен ехать к маменьке немедля — она тяжело больна. В-четвертых... Яков! — крикнул Глинка слуге. — Яков! Сколько денег прислала матушка? — Семь тысяч, Михал Иваныч. — Яков, сегодня купи карету для Екатерины Ермолаевны. И закажи дорожную коляску для меня. Мы уезжаем завтра. — Так что ты решил? — Отправляю Екатерину с ее матушкой на юг, к их родственникам... в здоровый климат. А сам — к своей матушке! И все — довольны!.. Весь мир против нас. С мечтой о счастье придется расстаться. Ты веришь в счастье, доктор Розмарин? — «Счастья нет, а есть покой и воля»... это же Пушкин сказал? — Да, Пушкин... «покой и воля»... ладно! — и Глинка сильно хлопнул кулаком по столу. — «Покой и воля»! Скажи Нестору, что я закончил двенадцать романсов на его стихи... «Прощание с Петербургом». Сегодня приеду и буду петь. Да! «Всеразрушающее время»!.. — и он запел из «Руслана» — «Любви роскошная звезда Ты закатилась навсегда!» Ладно, барин: поезжай! |
||
Братия провожала Глинку. Нестор Кукольник, держа в руке свиток, читал «ритуал проводов Глинки». Рыцарь Бобо, оторвавшись от своей конторки, сворачивал снятые со стен листы с нотами. Рыцарь Коко подметал пол, засыпая на ходу. Петр Степанов и Брюллов рисовали карикатуру на Глинку, поглядывая друг к другу в листки. Платон Кукольник распаковывал свертки с провизией. «Большая комната была обставлена соснами и елями, между которыми висели пестрые ковры, а вдоль деревьев на полу были размещены матрацы, накрытые равномерно коврами. Посредине были установлены три сверху связанных шеста, а к ним прикреплена короткая цепь, на которой висел большой котел. Между деревьями висело множество цветных фонарей, стояли многоручные шандалы со свечами. На столе уже стояло множество блюд с горячими кулебяками и разными русскими закусками, да бесчетное число бутылок». Платон Кукольник уже опорожнял в висящий котел с полдюжины бутылок рома, готовясь зажечь его, чтобы приготовить «крамбабулу». А Нестор читал, в окружении Якова, Булгакова, Лоди, Яненко, Брюллова, Даргомыжского, певца Осипа Петрова. «Церемониал проводов М. И. Глинки. Акт первый. Интродукция. Гости съезжаются к четырем часам и разговаривают сколько и с кем угодно; позволяются разговоры «а парте». Ария с хором: Михайло Иванович пьет кофе и курит трубку. Хор аккомпанирует. Акт второй. Увертюра: Глинка, Палагин и Яков разыгрывают большую историю на фортепьяно, скрипке и басу. Хор: пьет чай. Ария: Михайло Иванович поет: «Баркаролу», «Колыбельную», «Коня», «Лодеско», «Ильинишну»... Нет, хор поет «Ильинишну»! Финал второго акта импровизируется гостями...» Глинка рассеянно улыбался, слушал — и не слышал... |
||
... свистел ветер, метель залепляла глаза на Певческом мосту, тускло смуглел вдали купол Исаакия... прислонившись, стояла девушка в короткой шубке... заходила в арку дома №12... губы ее были горько изогнуты, глаза расширены... Екатерина Ермолаевна собиралась в дорогу, убирала в сундук то бледно-розовое платье, в котором она бежала с Палладиева моста к Рыбному каналу... |
||
...ревела буря над Певческим мостом!.. бежал, догонял ее Глинка... задыхался, глядя в глаза... |
||
— ... Хор ужинает и составляет финал по вдохновению, употребив для начала «Прощальную песню»... Ура! И в этот момент Платон зажег ром в котле!.. |
||
...Проводы были уже в разгаре, когда раздался звонок, вбежал Яненко. — Приехали граф Вильегорский и Франц Лист! Вошли Вильегорсккий и Лист с длинными волосами. Их встретили криками и рукоплесканиями. — Какие длинные волосы! — закричал Нестор. — У нас такие волосы строжайше запрещены! Лист, улыбаясь в шуме и гаме, прошел к разукрашенному роялю, вернее, пролез под деревьями, — и, сев за рояль, мощно сыграл несколько тактов вариации на тему марша Черномора. Все закричали и захлопали еще громче. Глинка поднялся с бокалом в руке. — Господа! Деятели искусства всего мира составляют одну общую семью «Ла Богем» — Цыганию, и король этой Цыгании в настоящее время никто иной, как великий фортепьянист Франц Лист! И по сему поводу его следует приветствовать качанием! Все с криком бросились к Листу, но он остановил их. — Господа! Я сердечно благодарен за оказанную мне гениальным композитором Михайло Иванычем Глинкой честь, но позвольте заметить, что костюмы паши не похожи на костюмы, подобающие истинным цыганам! Разумеется, как и Глинка, все это он произнес по-французски, так же как и граф Вильегорский, который засмеявшись, снял сюртук: — Его цыганское величество нрав! Долой сюртуки! К черту галстуки! Под общие восторженные крики «ура!» сие было в один миг исполнено. Затем Листа и Глинку покачали. — Жженка готова! — крикнул Платон. — Запевало, вперед! — крикнул Глинка Петрову. — К черту церемониал! Нашу! «Мы живем среди полей!» Петров мощным басом запел цыганскую, остальные подтянули... Синее пламя горело в котле, бросало отсветы на возбужденные лица. Глинке передали набитую трубку... И вот пламя погасло; все молча сгрудились вокруг рояля; Глинка тихо сказал: — Дорогие друзья! «Прощальная песня» — последняя песня из «Прощания с Петербургом». Слова песни посвящены, как написано в заглавии — «Михайло Ивановичу Глинке; а музыку Глинка посвящает друзьям». И он запел:
Занимался рассвет над Фонарным переулком... Яков втаскивал сундучки в экипаж... А Глинка пел — страстно и больно!
Глинка так спел последнюю строчку, что все присутствующие содрогнулись!.. |
||
И вот они стояли у экипажа, протягивали памятки. — Ты уже привык к этой трубке! — Булгаков с улыбкой протянул трубку. — Только кто тебе будет ее теперь набивать? Брюллов и Степанов протянули по листочку бумаги, свернутому в трубочки. — Последняя гадость другу! — кратко сформулировал Яненко. Нестор, не имея что подарить, комично развел руками... Глинка сидел в экипаже; и хмуро как бы глядя, на друзей, строго произнес: — И все-таки я бы хотел знать, кто сочинил на меня эту эпитафию: «Любил он музыку и юбки; Чужие люди для него Вакштаба набивали трубки, И жил в Давыдова он доме, Не обижая никого, Бутылок хереса окроме!» Кто? Разбойники! Прощайте! Поезжай! Экипаж тронулся. Глинка приветственно, но строго поднял руку... А друзья хохотали и что-то кричали вслед, и выбежавший из дому рыцарь Бобо махал платком... — Приедешь, повеселимся еще не так! — кричал Нестор. |
||
Карета двигалась впереди, экипаж за ней. |
||
Настойчиво звучали три ноты. |
||
И вот Глинка и Екатерина Ермолаевна стояли, прощаясь, на развилке дорог. Был летний день, рядом была рощица, поля... — Прощайте, Михал Иваныч! — голос Екатерины Ермолаевны дрогнул. — Когда теперь увидимся. Бог знает. — Ну, что ты. Катя... — тихо сказал Глинка, не глядя ей в глаза. — Вот вылечишься. Даст Бог, разведут меня когда-нибудь же... Но слова прозвучали пусто, безнадежно... — Мне так хочется с Вами в Тригорское... — тихо сказал Глинка. — Я так мечтал побывать в местах, где... сколько Выбудете у Осиповой? Может быть, я успею... Нет, если маменька серьезно больна, мне придется задержаться в Смоленске. — Миша... — вдруг шепотом сказала Екатерина Ермолаевна. — Я точно знаю, что мы не увидимся более. Судьба поставила нам препятствия, которые мне не по силам. Возьмите на память вот это... — и она протянула Глинке маленький бронзовый колокольчик. Последний поцелуй... — Прости меня, Мишенька, прости за все. — хорошо? — Екатерина Ермолаевна. облившись слезами, оторвалась вдруг от Глинки. — Прости... И, как всегда неожиданно, с обрывающей сердце внезапностью, она быстро пошла к карете. — Ты... прости меня — какой-то стон вырвался из горла Глинки. — Ты!.. Карета тронулась... Глинка смотрел ей вслед, расширив глаза... Потом поднял колокольчик, качнул его... Он слушал звон и качнул чему-то головой — то ли соглашаясь, то ли удивляясь: потом пошел к экипажу... |
||
Так же, как в начале, подкрадывается камера к окошку дома в Тригорском; в раме окна-картины все также свечи, и те же, кажется волшебные, профили... и тот же голос Осиповой. — Жаль, не будет Глинки. Мы ему пирогов специальных, смоленских напекли. Рояль поставили, Зизи привезла. И звенящий голос невидимой Зизи добавляет: — А Наталья Николаевна только что уехала... памятник поставила — и уехала с детьми... В Михайловском уже нельзя жить, все рассохлось, развалилось, стульев — и то нет!.. Ранним утром, почти не изменившаяся Анна Петровна, шла над Соротью дорогой из Тригорского в Михайловское, шла, опустив задумчиво голову. За ней шла дочь, разглядывая все для нее новое. Чуть слышно пел ветер, птицы, шелестела трава... Вошли в Михайловское; постояли перед развалившимся крыльцом... Анна Петровна услышала: скрип двери, сонный голос невидимого Пушкина... Они шли по Липовой аллее, теперь аллее Керн... — Мы приехали сюда и каретах, с факелами... — шепотом сказала Анна Керн, оглядываясь, щурясь. — И гуляли здесь... всю ночь... было много комаров... очень много!.. и липы цвели — так!.. Она старалась вздохнуть запах лип поглубже... |
||
Уже был виден Святогорский монастырь; дочь прошла вперед, Анна Петровна за ней... Перед лестницей она глубоко вздохнула воздух; стали медленно подниматься; свернули направо, на площадку... Они стояли перед скромным скучным обелиском; Анна Петровна смотрела на черную надпись на могиле, не мигая, с неуловимым выражением удивления... Когда они подходили к Тригорскому, Екатерина Ермолаевна тихо спросила: — Мама... ты любила... его? Анна Петровна молчала; покачала головой; с трудом выдохнула: — Я любила «шарад ан аксьон» ... тогда была такая игра!.. я любила шарады... я была... слишком... красива! Они шли молча; и еле слышен был шепот самой себе Екатерины Ермолаевны: — А я люблю Мишу... И буду — любить всю жизнь! — Это трудно... — освобождаясь от чего-то, сказала Анна Петровна, — ...любить гения. Очень трудно. У вас все безнадежно. Лучше тебе выбрать кого-нибудь попроще. Уверяю тебя! — и голос Анны Петровны прозвучал строго, почти жестко. — Ты сама поймешь, но не сразу! — Что Вы говорите, маменька?! — Екатерина Ермолаевна почти вскрикнула, схватившись за сердце. — Нет! Нет!.. |
||
«Протекли за годами года»... |
||
Менялась погода над вечным городом, над каналами, над Новой Голландией, над статуями на крыше Эрмитажа... Шел дождь, снег, все расцвело, желтело, краснело, и снова шел дождь, и снег, и ревела буря... Шли месяцы над Петербургом, над скамейками и набережными, над юностью и любовью, над шутками и пустяками... Шли голы, замедляясь в монтаже... И — стихал чистый звон колокольчика... |
||
Год 1856, сентябрь. ЦАРСКОЕ СЕЛО. Все желтело и краснело, «в багрец и золото одетые леса». У входа в небольшой домик недалеко от входа в Екатерининский парк шла суета, выгружались вещи; смуглый испанец дон Педро отвечал по-испански кому-то: — Да, да, Мигель, птиц в отдельную комнату! Глинка, невидимый за дверью, протянул Педро конверты, приказал по-испански: — Эти конверты доставишь срочно по адресам, не говоря от кого. А мне достань экипаж, в Петербург, в Фонарный переулок... |
||
Вечерело. Карета подъехала к дому на Мойке. Из окна кареты невидимый нам человек рассматривал дом, арку, окна, деревянную дверь в глубине арки... |
||
Человек громко стучал в дверь квартиры «братии». Послышался усталый, слабый голос: — Кто там? Кто там? Стучавший молчал... Наконец, дверь открылась. И... Старый, больной, похудевший, с выражением апатии и скуки на измятом лице, в рваной пижаме и грязном халате, на пороге скрывая зевоту, бывший сияющий живчик — Нестор Кукольник! С тревогой и недоумением разглядывал он растолстевшего, отрастившего бороду, тяжело дышавшего господина!.. Наконец, неуверенно прошептал: — Михаил Иванович? Миша!.. — и он узнал Глинку, — и мы с ним только сейчас узнали! — и они обнялись... Глинка обвел комнату глазами — все было так же, только конторки рыцаря Бобо не было, и все было старое, истрепанное, диван прорвался, обнажились пружины. — А где конторка? — пытался улыбнуться Глинка. — Где Бобо? — Бобо женился на вдовушке, помнишь — »як она мыло улибается». переехал к ней... мы и не видимся уже лет десять. — А ты? Как твой журнал? Твои пьесы? Трагедии? — Глинка прикусил губу. — Да вот-с... — Нестор пытался улыбнуться. — Ничего нет-с! Одна комедия... балаган-с!.. чиновник особых поручений при военном министерстве... — Кукольник развел руками, они дрожали. — Степанов, спасибо, помог, а то бы — хоть помирай! И в этот момент раздался зычный голос Петра Степанова: — Нестор, ты что ль, шутишь? Что за письма дурацкие: «Известная пробка берлинского штофа просит пожаловать»!.. И Степанов вошел — огромный, мощный генерал в генеральской форме: замер: беспомощно вдруг взмахнул руками, закрыл глаза... И тут же ворвался постаревший менее всех Константин Булгаков, тоже уже генерал. Он ситуацию оценил мигом: обернувшись назад, крикнул: «Вахтеров! Две дюжины шампанского сюда, мигом, и закусок главных!» — и схватил Глинку в объятия. |
||
Разговор уже кипел! смеялись, вытирали слезы, пили... — Война кончилась, слава Богу! И Николай — то-тю! — А кто тебе теперь трубку набивает? — Я теперь папироски курю! — Все ждут реформы! Говорят, освободят крепостных! — И слава Богу! — Глинка захлопал в ладоши. — Моя сестра уже освободила своих крестьян, и я очень доволен! — А некоторые не хотят в казенные, ей Богу! — Что ж, птицы так привыкают к клетке, что не хотят на свободу... что с того? Надо приучать к свободе! — Да, то время кончилось! — Глинка закрыл глаза. — Пушкин, Брюллов, Баратынский... мы были лирики! Сейчас вот начинается новое, натуральная школа... Тургенев, Толстой, Достоевский, Некрасов слышали? В прошлый приезд приходил ко мне Стасов, привел молодого юношу. Балакирева... Бородинн, Кюи, Мусоргский... уже все новое!.. дай им Бог!.. И все-таки...я вот как вспомню Сашу!.. понять не могу, постичь не могу... да хоть бы это — ну как это, ну что в этом: «Я помню чудное мгновенье» ... ну что в этом! Почему? Как? Что за тайна? Не постигаю... — Про тебя то же самое будут говорить... — тихо сказал Кукольник. — Да уже говорят! Ты, велик! — Да, и тебя не забудут, Нестор!.. — Глинка хотел поддержать Кукольника, но тот резко взмахнул рукой. — Не надо! Не надо. Миша, утешений! Про меня — ничего не будет!.. размотал талант... слишком легко жил... слишком весело! Вот: может, только с твоей музыкой вспомнят мое имя! — и, смахнув слезу. Кукольник откашлялся, приосанился. — Ладно! Ты вон смотри, какие орлы стали — разбойники! Оба генерала! Петр-то, знаешь теперь кто? — Кто? — Глинка изобразил восторг. — Комендант Царского Села, и не меньше того! — Так точно, барин! — Степанов улыбнулся я превратился в того стройного юношу, который ворвался когда-то к Мишелю в «птичью». — Так что попрошу — полегче!.. — Человекопротивная и богомерзкая твоя физиономия! — засмеялся Глинка. — Ба! Вот и Саша! «Подинспектор Колмаков... Вошел Александр Сгруговщиков, сразу продолжил: — ... вспоминает дураков»! «Сказал — довольно»!.. |
||
Горели свечи на рояле. Стояли пустые фужеры. Глинка двигал их — и считал... — Всех мы, барин, пережили... ужас какой-то!.. Пушкин!.. Лермонтов! Грибоедов... — фужеры катались по роялю, падали, разбивались. — Гоголь! Чаадаев! Жуковский. Карлуша Брюллов! Яков Яненко! Мой Яков! Вон, теперь слугу испанца я привез, дон Педро! Маменьку я потерял!.. — Глинка опустил голову. И потом снова стал швырять бокалы. — Тося Дельвиг! Баратынский! Мицкевич! Скольких пережили... жить стыдно! Все пережить, всех пережить — и все-таки жить! — Знаете эти новые стихи Тютчева? — спросил после паузы Струговщиков. И прочел:
— Нет! — Глинка закричал. — У меня не вымрут! Я все помню! Всех помню!.. Ты женат? — вдруг обратился он к Степанову. — Обижаешь, барин! — Степанов подбоченился. — Уже четверых имею — и все сыновья. — Счастливец! — Глинка ударил по клавишам. — Выдрать бы тебя; А вы знаете, сколько тянулся мой развод? Семь лет! Бумагу прислали в Испанию! Да... уж... Хороша ложка к обеду! И. усмехнувшись. Глинка сказал: — А вообще, есть еще на свете немало прекрасного, кроме счастья! Это у меня теперь целая религия! Но все-таки... — он вдруг прошептал. — ...Это ужасно — отречься навсегда от счастья! Вы что-нибудь слышали о...? Он по очереди взглянул на друзей: они отрицательно качнули головами. — Исчезла; как в воду канула... нигде. Ни в свете, ни в театре! — вздохнул Петр Степанов. |
||
— Что ж... — Глинка опустил голову, — Между прочим, мой вальс еще играют в Павловске, — хоть моих опер не ставят!.. По дороге я встретил дирижера: обещал ему к завтрему сделать новую инструментовку... придумал там кое-что, с небывалым ухищрением злобы: — Глинка потер руки. — А. сейчас, господа, все едем о мне Царское во главе с комендантом! Никаких возражений! Арестую! По каретам! Гости стояли в дверях, шатаясь, зевая, уходя. Глинка их удерживал, хватал за руки. — Ладно, барин, пора баиньки; — Степан никак не мог надеть фуражку. — Не тот возраст! — «Думаю, подумаю, идтить ли за него».. — Глинка покачал головой. — Нет, без Якова пицциката не получается! Ну, куда вы! Споем «Прощальную»! Богопротивный и человекомерзкий, еще рано! — Тебе еще работать! — Кукольник еле двигал языком. — Вальс! — Вальс, да! — Глинка кусал губы. — «Преданья старины глубокой»... да, обещал! Гости продвинулись уже до крыльца. Глинка загородил собой выезд. — Нет, еще рано! Погоди, барин! Нестор — и ты?! Костя, еще гвардеец! Стыдитесь! Людвиг! Еще хересу! Отличный! Не откладывай до вечера то, что можешь выпить днем — Саша говорил! Шампанского! «Ехал чижик в лодочке В бригадирском чине. Не выпить ли нам водочки По этой причине!» Друзья! Мы же любим жизнь все равно больше искусства! |
||
— Нет. Мишель! — Булгаков был неумолим, отодвигая Глинку. — Это ты! Ты! А мы простые, любим твое искусство больше, чем жизнь! — Давай, давай! — Петр Степанов обнял Глинку. — Напиши нам, барин, новый вальсик, чтобы он, знаешь, был без лишнего сурьезу... вальс, понимаешь ли! Помнишь, как у Гольцова учились вальсировать? Прощай, барин! На тебе карикатуру! — Опять сочинять! — Глинка почти заплакал. — Вот проклятье! Семьи нет, счастья нет, на родине забыт, болен всю жизнь — и еще друзья бросают! Сочинять!.. Ведь «это же мука какая будет! Если б вы знали! Тьфу на вас! Друзья, называется! «все те же мы — нам целый мир чужбина... Отечество нам Царское Село...» Друзья, хм!.. Где вы? Он стоял один в темноте на крыльце, шатаясь, и бормотал что-то, друзья исчезли: исчезли голоса, колеса, копыта... Молча возник Педро. запер двери, вопросительно взглянул на Глинку, зезнул. Глинка махнул рукой. — Иди спать, Педро!.. Все в жизни контрапункт! Любя более всего Россию, полжизни принужден был провести заграницей!.. «Камаринскую» написал в Испании, услышал в Варшаве! Родился в Смоленской губернии, а написал, пожалуй, не самую слабую испанскую музыку, а, Педро? Хоть «Арагонскую» и «Ночь в Мадриде»! Более всего в жизни любя детей, — никогда их не имел! Кто называет меня, русского, гением? Француз Берлиоз да венгр Франц Лист! Контрапункт, батенька, контрапункт!.. Женился слишком рано, развелся слишком поздно! Ложись спать, Педро!.. Буду сочинять... Нет, сначала плакать! «Герой, будь прежде человек».. |
||
Педро ушел, а Глинка присел к столу, рассеянно бросил карты... Подошел к роялю, поставил нотную тетрадь, взял три ноты ... четвертую... Отошел, зевнул, укусил себя за палец. Увидел шкатулку, открыл ее. Достал образок материнский, поцеловал его со стоном, перекрестился, прошептал молитву... Стал перебирать мелочи... трубку, подаренную Булгаковым... Вынул эскиз Брюллова «Всеразрушаюшее время», посмотрел... Вынул карикатуру на себя, посмотрел... Вынул спички — подарок Пушкина... медленно вынул одну спичку... чиркнул! |
||
Спичка горела быстро, ярко: Глинка пристально смотрел, спичка погасла мигом, и — немного дыма... Он медленно положил спички в шкатулку. И вынул колокольчик Екатерины Ермолаевны. Колокольчик звенел тихонько, нежно, по-детски... И Глинка — заплакал, сморщился некрасиво: тихо покачал головой, и — упал на ковер лицом вниз: — долго лежал, замерев... Быстро вошел дон Педро, нагнулся над Глинкой, перевернул его. И Глинка выбросил в него угрожающий палец. — А я что — ангел?! — почти выкрикнул он. — Ангел?!.. А Александр Сергеевич — ангел был? А?.. — он помолчал, покачал головой, слабо усмехнулся: и тихо прошептал, закрыв глаза. — ... но мы... Он не досказал... не досказал того, что досказать, может быть, живому неприлично: это уже биографы, доценты расшифруют, что «но мы...» означает «...Он весь дитя добра и света. Он весь свободы торжество»... Но сейчас — сейчас Глинка не сказал ничего такого, промычал что-то, простонал, поднял голову, расширил глаза — услышал!.. — все одно и то же, Господи, Господи! — простодушен гений, как вулкан... сейчас вот лава хлынет... Он встал: сел к роялю, тихо сказал по-испански: — А деток нет... и не будет!.. — он показал на ноты. — Вот мои детки!.. Береги моих деток, Педро!.. Теперь иди! И он открыл крышку рояля... Глинка спал на клавишах. Солнце светило ему в глаза: он проснулся, улыбнувшись чему-то: на полу валялись исписанные нотные страницы. Он собрал их, положил на рояль: закрыл крышку рояля. Вошел в птичью, отдернул темную штору, сетку! Птицы запели, заговорили... Он прошел к окну: с силой распахнул рамы — и начал подгонять птиц! Птицы вылетали, благодарно щебеча, уносились ввысь, а Глинка благодушно напевал: — Горестны мне думы. Сладостна молитва... И. когда последняя птичка вылетела, Глинка повернулся... ...и вышел в двери... в ворота... в полной тишине прошел в ворота Екатерининского сада... вдоль Партера перед Большим дворцом... мимо Липовой аллеи... мимо Камероновой... постоял на Палладиевом мосту!.. и пошел над озером... сел на скамью, — ту, рядом с «Девушкой с кувшином» Он сидел спокойно, с сознаньем исполненного долга смотрел на Чесменскую колонну, на Адмиралтейство, на Турецкую башню... на Палладиев мост... Он сидел. — и тихо улыбался, жмурясь на солнышке, — старый толстый, бородатый господин в довольно нелепом чепце с кисточкой... Появились вдалеке первые гуляющие... бонны с детьми... тургеневские барышни с книжками... задумчивый строгий офицер... два юных лицеиста... И вдруг легкие шаги раздались совсем рядом. — Михайло Иваныч?.. Мишель?! Не может быть!.. — Глинка повернул голову: увидел Марию Кржисевич — подругу Екатерины Ермолаевны, с которой автор когда-то так неуклюже его познакомил, ей было уже тридцать пять, и она была уже несколько матрона. Глинка вскочил, шевеля губами, не веря... ...со стороны было видно, как грузный пожилой мужчина с усилием воли встал... медленно протянул дрожащие руки к женщине... она обняла его... потом они сели рядом на скамью...и было видно, как он садиться с усилием тоже... |
||
— ...Я только вчера вернулся... — ...Боже, сколько лет! Миша! Вы теперь такой знаменитый! Все Вас поют играют! Все Ваши давние вещи: — Только опер не ставят... — Глинка благодушно усмехнулся, глядя на Марию, напел. — «...Тихо запер я двери И один без гостей Пью за здравие Мэри, милой Мэри моей» Значит, поют? Ну что ж! Я же говорил Вам: что я открою землю, и обо мне будут печатать в книгах, я прославлюсь... — Глинка шутил. — Хвастунишка! Неисправимый хвастунишка! — Мария шутила, но осторожно, словно не веря — тот ли это Глинка. — Сколько лет! Что нового сочинил, Мишель? — Что нового? Вот я сегодня ночью окончательно сделал редакцию того вальса, который когда-то сочинял для одной особы. Вам знакомой... Глинка остановился: Мария вздохнула — и Глинка, желая замять невольную модуляцию в разговоре, быстро, шутливо продолжил: — ...двадцать лет я его переделываю, доделываю и так и сяк! Вот сегодня — вроде последний раз... вроде все уже, конец! навсегда... — А, я помню! — Мария улыбнулась. — Как он все-таки называется? — Черт его знает! — Глинка засмеялся счастливым смехом. — Тогда назывался «Павловский». Потом — «Меланхолический»! Потом — «Фантастический». Назовем его — «Вальс-фантазия». Пусть он... напомнит нам... — Глинка вздохнул, посмотрел на Марию... — о днях юности и младости! Я придумал к нему новое начало, такое грозное! Такие ворота мрачные, из которых выезжают на санках юность! Ха-ха! И, тихо смеясь негромким, счастливым смехом, Глинка начал чертить прутиком на песке нотный стан. Мария вздохнула: сделала серьезное лицо, и поколебавшись, все-таки смущенно спросила: — Мишель: Михайло Иваныч! Скажите мне, ради Бога, надо мной все смеются... у Вас одного я решусь спрашивать. Вы добрый, Вы смеяться не будете... я понимаю, что вопрос глупый!.. но все-таки!.. скажите мне: как это делается?!.. как делаются такие чудеса, — вот Ваши романсы, музыка, этот вальс?.. я всегда Вас видела. Вы были веселый, простой, друзья, вечеринки... когда же?.. неужели это так легко? сел — и сочинил?.. ну, скажите мне — как это делаете!?, ну, искусство? Музыка, стихи?.. Только не смейтесь! Мария была страшно смущена. Глинка добродушно усмехнулся, погладил ее по руке. — Да Господи, барыня, чего смущаться! Вопрос законный... а искусство делается просто! — Ну как? Ну Вы хитрец! Ну как? — Да вот так! — Глинка лукаво усмехнулся. потом притворно сказал: — Ну что тут мудреного... Сидят, пьют пунш, играют в карты, до утра. Ясно дело. Все об этом знают. Спросите у любого. — А потом? Потом? — Потом... — Глинка улыбнулся уже против воли желчно, и сказал тихо: — Потом... потом тоже просто: плачут! Час плачут, день плачут, месяц плачут, год плачут... всю жизнь плачут — когда этого никто не видит! каждый, забившись в угол, как собака! А потом из этих слез отливают — стихи — ноты — иногда романы иногда — доклады... иногда донесения. — Ну, Вы шутите, Мишель! Вы смеетесь! Я так и знала, что Вы будете надо мной издеваться! — Помилуйте, барыня! — Глинка целовал ручки. — Как можно? Мы не врачи, сказал один молодой писатель. Мы — боль! Теперь ясно, да, Машенька? «Милой ласковой Мэри»... |
||
— Ну, я так и знала, что Вы меня за дуру принимаете: — вздохнула Мария. — И Вы мне не ответили!.. — Помилуйте, барыня! — смеясь, начал Глинка... — Вам никто не ответит. Самой надо... «И подруги шалунов»... И вдруг он замер! Он увидел... ...сверху, от террасы, спускалась Екатерина Ермолаевна... Она была далеко, но он узнал ее профиль. |
||
Она катила коляску с ребенком, и с ней рядом шел какой-то скромный господин... |
||
И Мария Кржисевич, увидев, взглянула на Глинку, поразившись его изменившемуся лицу, торопливо сказала: — Она... Вы разве не знали?.. она вышла замуж в прошлом голу!.. она Вас столько ждала!.. тринадцать лет!.. и вот родственники настояли!.. ведь ей же тридцать пять лет!.. он бедный, скромный человек, чиновник. Шокальский, очень больной... она отказывала всем тринадцать лет... она любила только Вас: я знаю! Екатерина Ермолаевна с коляской и мужем неторопливо, как во сне, прошла по мостику над Рыбным каналом... по дорожке между деревьев... дальше, к Палладиеву мосту!.. |
||
Глинка, замерший, впился взглядом: прошептал: — Да?.. меня так любили?.. право, не знаю, за что меня любили женщины, которые меня не понимали... но она... она понимала... да, понимала!.. ужас, ужас!.. тридцать пять... а мне пятьдесят три... как же это?.. как?.. почему?.. вот тайна!.. — Мишель, Меня ждут! Мы теперь увидимся! — Мария Кржисевич исчезла так же внезапно, как явилась... |
||
Глинка следил глазами... Е.Е. взошла на мраморный Палладиев мост... мелькала за колоннами... Последний раз мелькнуло ее строгое постаревшее лицо, за последней, шестой колонной — и исчезло... Исчезла она, муж, коляска... |
||
Глинка напряг взгляд — но уже не мог ее увидеть!.. Он посидел, глядя на нарисованные прутиком на песке ноты... и вдруг медленно, как во сне, как бы невольно — повернул голову направо... |
||
И увидел сидящего на скамейке, рядом с собой — себя, молодого... Молодой Глинка, сияя глазами, весь в трепете ожидания, смотрел туда же, куда минутой раньше Глинка старый — на Палладиев мост... Глинка-старый — недоуменно скосил глаза налево, на мост... там никого не было! Но молодой Глинка смотрел на мост с уверенностью... Глинка снова, уже сердито, перевел взгляд с себя молодого налево, на Палладиев мост... на его отражение в воде... И увидел: ... мелькает в воде то платье, бледно-розовое!.. И. подняв глаза, Глинка увидел!.. |
||
...бежит по мосту, торопится юная Екатерина Ермолаевна к молодому Глинке, сидящему рядом с ним на скамье... приближается!.. И молодой Глинка встал, пошел к ней... Они остановились по разные стороны Рыбного канала, как тогда, комично разведя руками от невозможности соединиться... |
||
И старый Глинка закрыл глаза, прикусил губу, открыл глаза, улыбаясь странной улыбкой, оглядывая пустынные аллеи Екатерининского парка, залитые уже предвечерним багрянцем... |
||
А молодой Глинка и Екатерина Ермолаевна обнялись, исчезли в аллеях... Глинка снова закрыл глаза, открыл: увидел перед собой ноты на песке, машинально дописал прутиком еще одну ноту... И... — грянули эти грозные и хрустальные аккорды!.. раздвинули занавес, предъявили права: сейчас было время вальса, он ждал этого весь фильм, всю жизнь!.. И, в наступившей секундной паузе после аккордов, перед темой — удлиним паузу чуть-чуть, не сердись. Михайло Иваныч, здесь можно и нужно! — и в тишине музыкальной, абсолютной, наклонясь вперед, Глинка негромко, чуть удивленно сказал свою последнюю фразу: — Я сейчас могу — все!.. Боже, зачем нельзя жить вечно?.. столько красоты... не успею раздать!.. так сладко!.. так много... ну, берите!.. все — ваше!.. лети!.. |
||
И — ...поплыл, заструился, обняв нас шелковистой удавкой скрипок, полетел самый Пушкинский вальс России, над Екатерининским парком... |
||
И, повернув взгляд налево, увидел Глинка, наконец... |
||
...от Елизаветинского грота приближались они, все сразу, все действующие лица его жизни, — и впереди шел Пушкин... |
||
Звучал «Вальс-фантазия», не самое величавое из глинкинскнх созданий, еще не до конца ограненное, может быть, ювелиром Хронобом: вальс про то, что мы знаем все, про то, чего мы так и не поймем до конца... сияющая сердцевина жизни, безошибочная прелесть её!.. |
||
И Глинка улыбнулся, наконец, больной улыбкой — смирясь, прощая, благословляя... И понеслись по всем аллеям, одетые в пестрый туман соляризации, как в шали и занавесы, полуразличимые фантомы... голоса, улыбки, бокалы, проказы. Мойка и «братия», танцы и слезы... неразличимы, милы, спрятаны в цветной туман, неслись фрагменты, лоскуты безумной молодости — то ли шабашем, то ли гимном... вихрем?.. — вальсом!.. и пронеслись совсем, только пыль еще танцевала на дорожке золотистого песка, да ветка липы дрожала, задетая рукой то ли Анны Петровны, то ли ее дочери... ведь и пушкинское Мпхайловское вспоминает наш вальс-поэма-фантазия — как свое!.. ...летел «Вальс-фантазия« над парком и голубым дворцом, и над мраморным Палладиевым мостом, и над Чугунной пушкинской скамьей, и над липами, посаженными при Ломоносове, и над Новой Голландией, и над Банковским мостиком... над всеми действующими лицами этой русской элегии для синема с оркестром... и над благодарной улыбкой Глинки, которая уже в темноте парка «была словно искрой пожарной из города озарена», и над всей его жизнью, про которую сейчас только объяснил нам вальс: чем она была для Мишеля Глинки!.. |
||
Засурдиненная труба в последний раз повела тему: фа-диез-си-ре-до... Глинка встал и спокойно пошел по парку к выходу... |
||
Темная карета ехала под окнами высокого здания... А в комнате плакал ребенок, и мать успокаивала его, а потом подошла к окну, стала смотреть — просто так, и увидела внизу проезжающую карету, из которой кто-то высунулся, глядя снизу вверх, заслонив глаза от солнца... Екатерина Ермолаевна опять отвернулась от окна, подошла к ребенку... Глинка смотрел на раскрытые окна... Он проехал мимо Капеллы... Мимо пушкинских окон... Глаза его открылись — страшно! |
||
Год 1857. ПЕТЕРБУРГ. Карета с гробом медленно ехала мимо тех же окон в обратную сторону... Была зима, и Екатерина Ермолаевна смотрела в окно сверху, на проезжающие кареты. Хлопнула дверь, и вошла ее мать, Анна Петровна, мы услышали ее голос, а потом увидели ее, — уже старушку, старуху! — Мишеля Глинку привезли из Германии! Сегодня отпевают! В Конюшенной церкви, как Пушкина! Боже! Боже! |
||
Мать и дочь пробирались к гробу... Пройти не удалось... Екатерина Ермолаевна вытянула голову... Там, за гробом... — она видела метель на Палладиевом мосту !.. |
||
Анна Петровна видела за гробом... — Липовую аллею... |
||
Отгремели финальные аккорды вальса си-минор, вальса «Меланхолического», «Павловского», «Фантастического»!.. |
||
И зазвучал, наконец, — вполголоса, не хамски, не эстрадно, — тот непостигаемый романс — русский, вечный, сладчайший...
Свистела метель, скрывала лица Екатерины и Мишеля... Скрывались в тумане неразличимые Александр и Анна, уходили в конец аллеи... таял шепот и смех их вечного поцелуя.
1983 годОсетинский Олегинтернет публикация --- Анна Чайка . |
||||||
copyright 1999-2002 by «ЕЖЕ» || CAM, homer, shilov || hosted by PHPClub.ru
|
||||
|
Счетчик установлен 26 июля 2000 - 1487