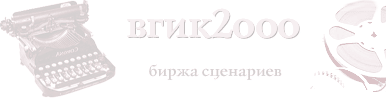
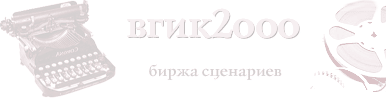 |
||||||
Шерен ЛюдмилаНЕДЕТСТВОроман
|
||
* * * Растроганная разговором с Аней, Рябушева долгое время сидела в беспокойстве за шумным столом, не обращая внимания на громкие шутки и скрежет пластинок, которых ежесекундно задевали локтями, от того музыка прерывалась пронзительным взвизгиваньем иглы, царапающей винил. Аня была одна, температура её не позволяла увидеться, видимо она заболела... и голос её не только слабый и безынтересный, но и какой-то беспомощный, наполненный той безысходностью, которая пугает... и Вити нет там. Мысли Танины потекли в разных направлениях. О чём конкретно ей думать и на какой мысли сосредоточиться она не знала, потому что слишком велико было волнение, а ещё больше страх потерять Аню, а теперь, когда она вновь услышала голос подруги, Таня вспомнила забытое ей неотступное восхищение Соврасовой во всём... от которого она так надеялась когда-нибудь избавиться или откупиться истинной виной последней. «Где же Витя, почему он не с ней теперь, когда она особенно одинока? — спрашивала она себя, ели сдерживаясь, чтобы не закричать на окружающих её беспечно веселящихся сверстников — Почему он не с ней, когда она так нестерпимо нуждается в ком-то...она же не выносит одиночества... а вдруг ещё пальцы начнёт резать?» — при этой мысли её совсем бросило в судорогу, лоб её похолодел и, впиваясь глазами в полутёмную комнату, душную и полную народом, она принялась выискивать кого-то. Позади неё кто-то открыл окно, Таня обернулась и сразу же схватила за рукав резво спрыгнувшего с подоконника весёлого и добродушного Акерманна. — Что? — с улыбкой спросил он губами, не пытаясь перекричать музыку. Рябушева подтащила его и заорала зычным голосом прямо в ухо: — Выйди в прихожую, поговорить нужно. Они быстро протиснулись между танцующими и, когда дверь в комнату захлопнулась, ещё не привыкшая к спокойной тишине Таня пощурилась от света и, склонив голову на бок, сказала: — Ты у Ани когда был последний раз? Рома перестал улыбаться и, застегнув воротничок голубой «бобочки» почему-то резко стал очень серьёзным. Он посмотрел на Таню, сурово и спокойно ждущую его ответа и, вскинув брови на своем светлом добродушном лице, сказал оттирая пот: — Ну я не помню числа... какое это имеет значение? — последний вопрос прозвучал с выражением, свойственным только ему одному, по-одесски: весь ряд слов был сказан на одной низкой интонации и только последнее подскакивало на высокие ноты так, что голос почти срывался. — Ты знаешь ведь, что у неё температура? Он удивился: — Я позавчера её видел... — и взволнованно потирая пальцы спросил — Ты хочешь к ней сходить? — Пошёл бы ты к ней, а... — попросила она, вдруг по-дружески положив на его круглое большое плечо ладошку и заглянула в глаза. Акерманн посмотрел на часы: — Пять, — задумчиво произнёс он. — Она будет рада... ей сейчас кто-нибудь нужен, понимаешь, Ромка, хотя бы кто-нибудь. Рома привык быть именно «кем-нибудь» и конечно он был бы счастлив, если бы Аня обрадовалась ему. Моментально всё осмыслив и удивившись, как он ещё секунду назад мог раздумывать над предложенной ему возможностью, он подскочил к своим ботинкам и, расшнуровывая их, чтобы одеть, не глядя на Таню, засуетился: — Ну конечно, конечно я схожу к ней... неужели же она одна? Рябушева взволнованно подала ему дублёнку и ободренная его энтузиазмом улыбнулась: — Я бы сама так хотела её увидеть... Он подмигнул ей и, не попрощавшись с гостями, рванул к двери со словами: — Я умчался. Когда дверь за ним грузно захлопнулась, Таня оперлась на зеркальноё панно в некотором всё ещё не покидавшем её волнении: она не знала что она сделала, но была уверена в правильности своего поступка... |
||
... Из тёмного холодного подъезда, освещённое яркой жёлтой лампой прихожей, лицо Ромы смотрелось неестественно и живо. В комнате, расположенной поодаль гостиной громко работал телевизор, весёлый мужской бас комментировал новости спорта под торжественную густую череду духовых инструментов. Горящая от температуры Аня, несколько скукоженная в своем тёплом халате, смущённая неожиданным вниманием, которого, как ей казалось она совсем не заслуживала и пахнущая только что выпитыми лекарствами, стояла оперясь рукой на дверь и по обыкновению смотрела на его лоб. — Что же ты совсем одна? — повторил Рома свой вопрос, обдав Соврасову свежим уличным вечером и выпитым шампанским хорошего качества. — Только сегодня температура поднялась, — сказала она и пропустила его войти. Акерманн весело и бодро поздоровался с Аниными родителями, одновременно выглянувшими из большой комнаты и, не чувствуя совсем обычного волнения, которое было знакомо ему с первых минут появления у порога этой квартиры, прошёл в Анину комнату, зацепляя носками маленькие гвоздики в натёртом мастикой полу. Когда она села с ногами на кровать, упорно заправляя слабыми, непослушными руками растрепавшиеся волосы за уши, Акерманн взглянул украдкой на тетради, лежавшие грудой на письменном столе, только что вытащенные из сумки и понял, что теперь она долго не собирается приходить в школу. — Что-нибудь серьёзное? — спросил он встревоженный мыслью о том, что теперь каждый раз первая парта будет грустно светиться перед ним своей опустошённостью и тишиной. — Не знаю, — усмехнулась Аня. За стенкой заиграла музыка из какого-то недавно поставленного на сцене Большого Театра балета, затем с глухим цоканьем начали переключаться программы телевизора, в комнату заглянула Анина мама, на которую сама Аня была похожа лишь цветом волос и смуглостью лица. Она спросила, нужно ли что-нибудь и, когда Соврасова ласково посмотрев на неё, одарила покорной улыбкой и помотала головой с нежной и проникновенно искренней благодарностью, та закрыла дверь, оставив их в гулкой тишине... Рома с тихим восхищением, закусив губу, следил за Аней, проигрывая тут же мысленно все её жесты и влюбляясь в неё всё глубже и неодолимее. — Рома, ты не попросил папу... Акерманн перебил её, стыдясь, что вынудил об этом спросить, а не сказал сам: — Ты знаешь, пока — безрезультатно. Аня пристально посмотрела на него, широко раскрывая глаза и напрягая зрачки. — Ну там такие сейчас в РАППе проблемы... — он неохотно потёр лоб и продолжал, перескакивая с одной интонации на другую, — а всё равно ничего они с отцом не сделают... лучше критика им всё равно не найти, а их пролетарская структура не будет же вечно вытеснять, не возможно же до крайности сузить их эти нормы, или как их. Он посмотрел на Аню, которая с интересом изучала его, но почти не вслушивалась в слова. — А что так сложно продержаться там? — спросила она тихо, подразумевая вакантность места работы в ассоциации пролетарских писателей. — Ну, понимаешь, так строго всё. Я даже и не представлял... — он помолчал, — недавно вот Рустошина уволили... не знаю за что, — ( усмешка грусти и негодования невольно вырвалась из него ) — не знаю за что, просто им надоело наверное как он пишет: или очень мало о партии или слишком много о светлом будущем — не знаю. А отца они всё равно не тронут, лучше им не найти. Он у меня талант, тут уж ни куда не деться. Акерманн действительно беспредельно гордился своим отцом, в этом была какая-то трогательная сила, оттого всё его существо было открыто и ранимо, потому что все знали, его гордость — его слабость, это — отец, который мало интересовался жизнью сына, почти не уважал его и редко к нему обращался... Рома был самым примерным сыном своего отца, которых когда-либо приходилось встречать Соврасовой, и даже не смотря на максимализм, с которым он подчас признавался в страстной своей преданности к родителю, Аня всегда слушала его, как в первый раз. Она была единственным человеком, терпящим его припадки вечно повторяющихся страданий о нелюбви отца, потому что знала: это — неприкосновенно, и если она и позволит себе за что-то презирать его, к чему-то быть строгой и неумолимой ( она всегда подразумевала предательство ), то любовь Ромы к отцу никогда не будет ею затронута, как оружие против и никогда она не посмеет кому-то в её присутствии поносить, надсмехаться или просто глупо болтать об этом отношении. Она посмотрела на него с нежностью и прекрасно контролируя себя, так, будто температура совсем не имеет над ней никакой власти, моргнула обоими глазами, давая ему понять, что она всё ещё поддерживает его в этой нестерпимой слабости, тем более что и сама она была подвержена слабостям сердца до негодования всецело. — Ну и не переживай тогда, если ты сам в нём так уверен, — сказала она. Он кивнул. — В конце концов, почему ты такого плохого мнения о людях, которые там работают. Они же — честные, порядочные люди, граждане своей страны. — Они не честные... но это не главное. Я знаю, что они даже при всей своей догматичности не смогут... не выгонят же они его только за одну фамилию...? Соврасова исподлобья посмотрела на него, она боялась как раз последнего, хотя вообще была уверена в порядочности советских интеллигентов, поэтому считала напрасным думать об этом с тревогой и сомнением. — Ты плохого мнения о людях, — сказала она таким голосом, что Рома внезапно почувствовал такой прилив сил и настоящей кипящей, ничем неколебимой уверенности, что в один момент забыл обо всех своих переживаниях и с особой остротой вспомнил, как сильно он всё-таки любит Аню, а теперь — ещё в два раза сильнее из-за восхищения и гордости, которые она в него вселяла. — Да, — сказал он и вдруг покраснев быстро спросил ( думая, что получится развязано ) — Аня, ты сможешь полюбить меня хотя бы как человека? Соврасова, которая всё больше обретала контроль над своими движениями и действиями, окончательно овладев своим тяжёлым взглядом, подвластным ещё минуту назад высокому давлению и одолевающему её жару, ошалело блеснула на него кристальными глазами и невольно чувствуя каждый мускул собственного лица и в особенности губы, пристально и отчётливо вслушиваясь в свои слова, отпарировала: — Ты сказал «хотя бы»? Он ждал... он не имел сил ответить, так быстро она взяла себя в руки, изумив его театром непревзойдённых своих эмоций. — Ты знаешь как надо любить??? Ты знаешь, как надо любить по-настоящему, что спрашиваешь меня о таком снисхождении?... «Хотя бы», как человека...! В форточку подул ветер и уронил большую открытку с изображением советского флага и гвоздик, стоявшую у её настольной лампы. Рома, не поворачивая головы, поднял её. — Любить только так возможно. Только так нужно любить...только это — свято... любить не женщину и не мужчину, а человека... — Аня заключила колени в скрещенные пальцы и опустила глаза, — ты представляешь каким человеком нужно быть, чтобы всецело заставить полюбить себя... именно себя — человека, а не как принадлежность к какому-то полу... да что значит любить мужчину? Что значит любить женщину? Почему мы не думаем о том, что это — не любовь, это — естественный отбор... это же животность. Рома, напряжённо опираясь на выпрямленные сильные руки, взволнованно и заворожено вслушивался в её речь, произносимую в полголоса с каким-то особенно ласковым, убаюкивающим акцентом. — Тебе не кажется, что мы походим на самцов и самок, отбирая себе пару? Как это всё пусто... как чрезмерно пусто, Господи. — Но, Аня... Она перебила его, откинувшись спиной к стене: — Нет. Я понимаю, ты можешь смотреть на человека, как на — противоположный пол, если это — твой партнёр по бальным танцам... если это — твой соперник в фехтовании,ты должен учитывать против кого идёшь или с кем ты. Но как можно любить в человеке ещё кого-то кроме человека...! Чего же ты просишь от меня? Ты просишь — полюби меня! Ты просишь,чтобы я всецело приняла тебя! Он быстро и подавленно остановил её: — Извини. — Да ни к чему извиняться. Ты ведь не то имел в виду... — Я ничего этого не знал. — А это — то и обидно. Рома поправил на шее мохнатый шарф, который он почему-то не снял в прихожей ( значит волновался! ) и,помедлив, спросил: — Аня, это значит, что любовь — бесполая? — он задал этот вопрос вниз, уверенный в правоте его и в утвердительном ответе. Та кивнула головой, смотря в уже потемневшую сумрачность комнаты: — Как душа... Подавленный и угнетённый этим открытием, Рома наблюдал за её задумчивым ликом, сердце его было полно ропотным желанием самопожертвования... он не знал что сделать для неё такое, чтобы это было достойно её души и красоты. — Я всё-таки думаю, что смогу сделать Витины стихи, — сказал он, утешая и почувствовал вдруг, как всплеск непревзойдённой никаким другим чувством жгущей ревности и обиды, захлестнул в его душу. Витя! Ну, конечно, почему он сначала о нём не вспомнил... неужели Витя — тот самый всепоглощающий своей душой человек, которого она любит, неужели он так бесценен? Что же он такое скрывает в себе, что так безошибочно даёт ей видеть именно того единственного настоящего человека, которого жаждет её сердце... Аня не почувствовала его смущённости, но чутко поняла, скольких усилий ему стоило произнести эти слова, и она обняла его за плечо, дыша нагретым своим дыханием в мохнатый шарф, съехавший ему на руки. А он сидел, совсем подавленный и думал об исполнении своих надежд, о невероятном чувстве беззащитности и ненужности, впервые обуявшим его, о своей нестераемой вот уже пять лет любви к этой девочке и о том, что когда-нибудь всё это вспомнится. Аня принялась ритмично отстукивать такт пальцами о ручку дивана. Её деревянная лакированная поверхность отражала белый потолок и от серого цвета, наполнившего комнату, казалась холодной и ледяной. Два пальца: указательный и средний постоянно, спокойно и какт — о продуманно колотили по деревяшке. Аня покачивалась им в такт и в голове её мысли стали подстраиваться точно под него. Она окинула взглядом письменный стол: в левом углу беспорядочно лежали её тетради в аккуратных, блестящих, прекрасно сохранившихся с начала года обложках, на них три чертежа, рядом под чернильницей — зелёная гладкая тетрадь, подписанная размашистым длинным и очень искусным подчерком, это была тетрадка Агнессы. В правом углу стола — настольная лампа, под которой лежали две перевёрнутые фотографии ; они так всегда и лежали, Соврасова никогда не ставила их, потому что ей не хотелось, чтобы хоть кто-нибудь знал о том, кого она хочет видеть, когда не имеет возможности этого сделать. В любой момент она поднимала фотокарточку, переворачивала и смотрела на неё. Рядом с лампой лежали две книги: Эдгар По и Александр Блок. Пальцы всё ещё отбивали такт и когда взгляд Ани упал на книгу Блока, в ритм такту моментально, как по хлопку, монотонно, подобно медленному ходу поезда память начала выплёскивать стихи. Аня прищурилась... Закат в крови Из сердца — кровь — струится... Рома внезапно дотронулся до её руки: — Ты нервничаешь? — М-м? — Нервничаешь? — Наоборот... сосредоточена, — она улыбнулась. Он замолчал. «Что там...? Что там было?... » Из сердца — кровь — струится... Плачь, сердце, плачь... — Слушай, Аня. Мне так одиноко жить. Я только сейчас это понял. Она перевела свой оцепенелый взгляд на его лоб, гладкий и красивый. — Странно, что ты понял это только сейчас. Он кивнул: — Я тоже этому удивляюсь... Он повертел открытку, упавшую с её стола, ту самую, которую взял не глядя. Плачь, сердце, плачь! — Я не понимаю, почему это, — поморщившись сказал он. Он произнёс это так, будто на самом деле очень хорошо понимает почему это и от этого ему противно. — Но, ты знаешь, это — у каждого из нас. Тот, кто этого не чувствует просто не имеет своей жизни, — она посмотрела на его волосы и Рома, вглядевшись в её глаза увидел, что когда они смотрят на что-то очень близко расположенное, левый чуть-чуть, едва заметно придвигается в сторону переносицы. Когда он присмотрелся и убедился в этом окончательно, то так умилился, что затаил дыхание: ей настолько шла эта косоватость, она даже не представляла себе. — Да, — сказал он, пытаясь отвести взгляд. — Этого не нужно бояться. |
||
Плачь, сердце, плачь! «Да, что же там такое... Почему постоянно эта фраза фиксируется в памяти...? Что же такое с сердцем?... Плачь, сердце...» Аня почувствовала, что температура её почти спадает, но голова становится почему-то всё тяжелее и горячее с каждой минутой. — Не нужно бояться этого, — повторила она, — страшнее всего это — не одиночество. Страшнее всего — никчёмность. Представляешь, как безвозмездно может жить человек? Так, просто для себя одного. А потом умереть и никто о нём не вспомнит. Но самой страшное, так это то, что мыт — о все не видим этого и все бежим постоянно куда-то... Он посмотрел на неё внимательно: на минуту показалось, что она бредит, так изменился её голос. — Тебе когда-нибудь приходилось наблюдать в ночном поезде отражение лампочки в стекле окна? Он напрягся: — Наверное? — Знаешь, когда едешь, смотришь на эту лампочку... в стекле окна. И думаешь: что там за звезда странная, или, иногда кажется, что это — луна... Я как-то так долго смотрела на такое отражение и даже спросила кого-то, о том, что это за звезда... Мне засмеялись в лицо и сказали: обернись и посмотри на лампочку сзади, поймёшь, как эта звезда называется..., — Аня замолчала, — в тёмном стекле так отражался электрический огонёк, что я действительно подумала, что это звёздочка... — Ну?... — заворожено сказал Рома, не понимая до конца, как продолжать. — Пу — усто было потом! Аня сказала первое слово, сдвинув брови и надув слегка аккуратные ноздри, а голос её звучал так, будто она куда-то падает. — Вот это и страшно...когда видишь... и бежишь за этим, а потом оборачиваешься и понимаешь, что бежишь за неуловимым отражением того, что попросту за твоей спиной. Рома начал раскачиваться в такт Аниному постукиванию, её пальцы не останавливались всё время, пока она говорила. И теперь вслушиваясь в тишину, нарушаемую точными ударами сильных пальцев, привыкших к ударам волейбольного мячика, она вспомнила последние строки стихотворения. — Как ты точно сказала, — изумился Рома. Она кивнула головой. По — ко — я нет! Степная кобылица несётся вскачь! Чем громче стучали пальцы, тем нестерпимее было Ане слышать последнюю мысль: теперь она поняла всё! Её температура упала ниже нормы, её взял озноб. Она вспомнила Агнессу Миланскую и тот вечер, когда спросила у неё: Чего ты боишься? Аня вспомнила голос, глаза ( с монгольским разрезом ), губы, очень влажный и красные, волосы и пробор...и вспомнила то, что ответила ей Агнесса. «Покоя нет!» Господи, неужели она раньше этого не понимала?! — Аня, что с тобой? — спросил Рома, глядя на её побледневшее, искажённое от воспоминания лицо. — Я поняла, чего боюсь, — ответила она. Она была готова разрыдаться от того, что нашла свой страх. |
||
ГЛАВА 18 С брезгливым лицом в мимике высокомерия и пристыженности вступила Агнесса на платформу Ленинградского вокзала в Москве. Её толкнули сзади и, когда она, подскользнувшись на грязном льду, обернулась, чтобы увидеть кто это сделал, невинно улыбающаяся девушка с явными душевными расстройствами, написанными на её агнецком личике, взглянула на ту исподлобья и почему-то неестественно испуганно отвернулась. «С ней всё понятно, » — прокомментировала мысленно Агнесса и взор её устремился на безынтересно двигающуюся у здания вокзала серую толпу. К удивлению Миланской, когда она спускалась по ступеням, оглядывая их внимательно и смотря себе под ноги, чтобы не упасть, её позвали по имени и громко засигналили. Обернувшись, она увидела бежевую «Волгу», с шофёром отца, который часто заезжал за ней и в школу. — Ах вот как? — сказала она, довольно улыбаясь ему в глаза и, слегка помедлив, придержала заднюю дверь, которую он для неё открыл. — А поезд пришёл ровно, — благодарный за обворожительную улыбку и расцветший от всей чарующей красоты Агнессы, ответил тот. Когда Миланская окунулась в мягкое кожаное сиденье, поражающее своей шириной, и, держа сумочку на коленях, посмотрела на него в переднее зеркало, шофёр быстро сказал: — Вас нужно к дому, и сказали без промедлений, — он повернул ключ в зажигании и, сделав серьёзную мину, газанул задним ходом. «Значит Маша всё-таки не забыла позвонить», — мелькнуло у Агнессы и она, незаметно улыбнувшись, вздохнула от тяжести в болевшей голове и тошноты от предстоящего свидания с отцом, подступавшей прямо к гортани и искажающей её губы. |
||
* * * Поздно ночью зазвонил телефон, глухо и пронзительно дребезжа под накрывающей его подушкой. Соврасова потрогала лоб, жар спал очень быстро и теперь лицо наоборот было смертельно холоденым. Она вспомнила прожитый день и свою неожиданно подскочившую, приведшую в озноб всё тело, температуру. «Припадок», — подумала она. Телефон звонил очень настойчиво, Аня вгляделась в большой циферблат стоявших у трюмо часов, стрелки показывали пять минут второго. — Да, — тихо сказала она в трубку, придерживая второй рукой тяжёлый корпус телефона. — Аня, я должен с тобой поговорить сейчас и никогда больше, — сказал на другом конце провода Витя. — С ума сошёл..., — вырвалось у неё. — Я под твоим окном, — сказал он шёпотом, не обратив внимание на её слова. Сильно напрягая ноги, ступни и голени в особенности, передвигая ими, как в спортивной ходьбе, Аня подошла к окну, волоча за собой телефонный провод. На узком тротуаре напротив, в ночном тумане, освещённом далёкими фонарями, виднелась его фигура. Он стоял, опираясь спиной на открытую, шатающуюся дверь телефонной будки, куртка его была расстёгнута, голова наклонена вниз: он смотрел в ноги. — Я вижу, — сказала Аня как-то жалостливо. Гуськов быстро вскинул голову на её окна. Он увидел в большом тёмном прямоугольнике, провалившуюся в глубину своей просторной комнаты, её фигуру. Аня стояла на цыпочках и видна была ему чуть до пояса. Только белая ночная рубашка, растрепавшиеся волосы, рука, державшая трубку телефона, какие-то светлые, блестящие треугольнечки — отблески окна, как будто разбитые вдребезги стекла, ещё стоявший на подоконнике большой цветок и едва заметный овал лица рядом с ним — это всё, что мог он разглядеть с противоположной улицы, вглядываясь в окна второго этажа большого Сталинского дома. — Ты выходи, — попросил он. Соврасова не долго колебалась, она бы всё равно не заснула, думая о нём. — Подожди, — просипела она, наматывая на ладонь узкий и прямой провод телефонной трубки, — спущусь... Он услышал короткие и частые гудки в трубке, окно стало пустым и каким-то громадным, плотно занавешенным красивого плетения серым тюлем. «Как-то легко на душе », — подумала с удивлением Соврасова, натягивая колготки и быстрыми движениями сбрасывая на пол вещи из шкафа. Она искала тёплый свитер и мысли её тем временем, так стремительно сменяли друг друга, приводя её в такое невменяемое возбуждение, что показалось, будто она выпила по меньшей мере три стакана кофе, который всегда влиял на Аню магнетически бодряще. Натянув через голову намагниченный свитер и закатав рукава, Аня посмотрела на ладони и пальцы и с удивлением поняла, что все шрамы её зажили а новых не появлялось вот уже недели две. Она облегчённо вздохнула и, выйдя в прихожую, нащупала огромную связку длинных ключей. Дверь за ней захлопнулась глухо и как-то сразу, как подгоняемая ветром. В подъезде внизу кто-то включил свет и широкие чистые лестницы с резными перилами озарились жёлтой электроэнергией, так всегда горели лампочки в подъездах, когда их зажигали ночью. Он стоял у самого входа в парадную, около стеклянных дверей и невротически постукивал пальцами по низкорасположенному выключателю. Увидев её в черных рейтузах и сером толстовязанном свитере с закатанными рукавами, Витя не мог не улыбнуться: как сильно он любил в ней всё от начала и до конца, теперь же — ещё больше от того, что это «всё» отдалялось с неукротимой силой. Аня подола ему свою холодную руку и сказала: — Останемся здесь, — когда он хотел выйти на улицу. — Ты не спала? Она кивнула головой и приоткрыла рот чтобы бессознательно что-то сказать, на разум быстро овладел ею и она уже через минуту, осознав силу своей воли, облегчённо вздохнула: часто приходится жалеть после сказанного. — Я не буду долго говорить ничего, — сказал он взволновано и на его лбу появилось множество параллельных морщинок. — Ну, так только, чтобы я поняла, — перебила Аня, пытаясь не смотреть на него с нежностью, чего у неё явно сейчас не получалось. — Мы не будем с тобой пока общаться, потому что... я тебя люблю, очень люблю и я хочу, чтобы та сама во всём разобралась, я не хочу тебя мучить. — Ты не хочешь мне помочь... — она ясно видела, что он всё знает, но не имеет сил сказать, что происходит с ней. — Как помочь? — Скажи, что ты хочешь на самом деле сказать. — Твоя Миланская — ведьма. — Может быть, — уголки губ её подёрнулись, а лицо залилось едва заметной краской. — Ты утратила какую-либо способность думать, идёшь у неё на поводу... Аня запнулась: — Всё это происходит сознательно. — Что? — Я так хочу... — она сорвалась на крик, — ты для этого меня позвал серди ночи сюда, ты хотел сказать мне то, что я давно уже прекрасно и без тебя поняла, ты хотел рассказать мне о моей любви? Что ты хочешь ещё узнать, может быть тебя мучает ревность и ты боишься, что она может мной управлять, а ты — нет? Ну так потому что она любит меня... поучись у неё как надо любить! — Как любить? Унижать тебя? — А ты думаешь, она передо мной не унижается? — Аня тяжело выдохнула, — Знаешь ты кто она? Знаешь? — Нет! — Гадина, похотливая дрянь, в уме совакупляющаяся только с собственной плотью... она любит себя до умопомрачения, — Аня успокоилась и продолжала, тяжело дыша, — на кроме себя она любит ещё и меня... сильнее этой любви ничего не существует. — Она тебя убивает, Аня. Соврасова остановилась и презрительно оглядела его с ног до головы: — Да ты просто слишком смертный.... да к тому же и трус, — с этими словами она размахнулась и со всей силы дала ему пощёчину, от которой у него лицо погорячело и из глаз брызнули слёзы от неожиданности и силы удара. Он равнодушно вытер их рукавом: -Аня, куда ты? — закричал он бессильно в след быстро поднимающейся по лестнице Соврасовой, не веря, что его назвали трусом. Витя стоял ещё в парадной долго, потом выключился свет, рука машинально вскинулась на выключатель, но он поборол в себе это желание от которого почему-то за последнее время никак не мог избавиться ; постоянно казалось, что очень темно. «Этот точно умрёт, так никому и не нужным», — подумала Соврасова, со злостью кидая на кровать связку ключей. «Убивают меня, видите ли,... — рвалось у неё — трус, никому не нужный трус. Ещё один из того же стада.» Аня села на кровать и смотря в пол, усиленно выгнула шею в потолок. «А что я, собственно, рядом с ним делаю? Он тянет меня только на своё дно, к своим посредственным страхам. И больше ничего.... — думала она и всё больше удивлялась, как это раньше к ней в голову не пришло, — холуй.» — беспощадно крикнула она в душу. Повторив это слово про себя ещё несколько раз, она, не раздеваясь, вытянулась на постели во весь рост, пытаясь растянуться в пальчиках ног.Вспомнив своё лёгкое настроение до встречи с Витей, Аня пришла в замешательство, ей стало совсем не понятно откуда взялась эта праздность, внутреннее спокойствие и даже нежность, какова причина этих чувств, ей было отнюдь не ясно ; и ещё одна мысль занимала её и удивляла с ещё большей силой: Миланская приехала этим вечером в Москву, почему Аня забыла об этом, как она могла об этом забыть настолько, что даже не сразу после Витиного упоминания о ней опомнилась. Откуда была эта лёгкость в мыслях, эта непонятная рассеянность? |
||
ГЛАВА 19 На высоком холодном подоконнике третьего этажа массивного здания школы было тонкой иголочкой выскреблено: «Никто не забыт, ничто не забыто». Уже с самого утра со второго этажа раздавались весёлые голоса хором поющих детей, не поспевающих за аккомпанементом. Аня стояла неподвижно, теребя школьный воротничок нежными подушечками пальцев, давно уже не знавшими острого лезвия канцелярского ножа. Она смотрела на светлеющую за окном улицу и прислушивалась к своей температуре: ей казалась, будто у неё внутри что-то кипит и крутится, подобно белью в стиральной машине. Двери в длинные просторные классы были настежь открыты, из них дуло прохладным почти весенним ветром, погоняемым тихой строгостью учебной атмосферы, этим всё ещё не покинувшем учеников страхом перед неизвестностью, томящейся в предстоящих сорока минутах урока и ленивым правосудием ( главное орудие советских школ ). Весёлая и взволнованная вошла Таня Рябушева на этаж. Заводя себя подсознательной мыслью о том, что каждый из нас что бы он ни делал, совершает это лишь из одних неизвестных в полной мере даже ему самому побуждений — получить похвалу за сделанное и больше ничего, она быстро шла уверенным шагом к кабинету. Рябушева пришла в школу с температурой не меньше 38 градусов и знала, что сделала это ради того, чтобы, пусть ещё больше подорвать здоровье, но принять участие в активной жизни школы. — Аня, — как-то особенно звонко и оттого глупо, крикнула она и подбежав к последней схватила её горящей рукой ( что было сделано намеренно) за расслабленные пальцы. — Привет, — блеснув глазами быстро отреагировала Соврасова и с сожалением отметила, как Таня похудела и осунулась. — Ты как всегда рано? — сказала та, смотря на часы и всё ещё не выпуская руки Ани. — Да, привычка. Когда обескураженная тем, что не услышала предполагаемого желанного вопроса о том, почему так горяча сегодня, Таня отошла, староста медленно повернулась к окну спиной и, смотря вглубь, начала вспоминать прошедший вечер. «Что бы такого странного мне в голову не пришло, почему я так волновалась вчера и волнуюсь теперь?» — спрашивала она себя шёпотом, слабо шевеля губами. Коридор начинал наполняться, появлялись учителя, включили яркий свет, лёгкий гул голосов наполнил арки между кабинетами. Аня повернулась к окну и увидела, как чёрная волга, быстро выключая фары нерасторопно подъехала к крыльцу школы и кто-то отпрянул с дикой силой от неё, как кошка из-под колёс, а учительница математики ( грузная женщина с вечно обиженными губами — её Аня узнала сразу ) остановилась и почти пополам согнувшись поздоровалась с кем-то за окном машины. Через минуту показался широкоплечий мужчина в чёрном пальто, он то и дело приглаживал свои редкие волосы толстой рукой и, медленно обогнув машину, наотмашь открыл дверь сзади. Человек в пальто подал руку дочери и та, проворно вложив в неё свою и так же ловко высвободившись, ступила на землю и захлопнула за спиной дверь. Агнесса Миланская не изменилась, даже волосы за две недели не подросли, и скулы остались неизменно ровными — Аня всё это увидела сразу и переведя взгляд с неё на отца, который морской походкой шёл обратно к передней двери, она щелкнула пальцами в воздухе. Агнесса неторопливо поднялась по ступеням школы и скрылась за дверью. «Почему я так волновалась вчера и волнуюсь теперь?» — вернулся к ней невольно последний вопрос. Она молча отошла от окна и направилась в кабинет напротив. Таня быстро подбежала к только что покинутому Аней подоконнику и демонстративно упёрлась лбом в стену. «У неё такое странное лицо было, как будто в окне что-то увидела», — подумала она. Некоторое время она стояла, как парализованная, остановившись на этой мысли, потом взгляд её упал на тонко выведенную иголкой комсомольского значка надпись... Никто не забыт — ничто не забыто. Когда, уверенно отбивая шаг каблуками, Агнесса вплыла в класс, Таня неестественно разволновавшись залепетала: — Давно же тебя не видно было, мы уже думали, что ты навсегда нас покинула. — Правда? — неожиданно вспыхнув улыбкой на миловидном лице, ответила Агнесса. Резко подняв голову, Аня хотела поздороваться, но потеряла Миланскую в толпе одноклассников и облегчённо склонилась над учебником физики, читая уже пятый раз подряд наизусть вызубренное название темы: Индукция. — Здравствуй, Соврасова, — услышала она за спиной. Агнесса стояла в синем платье с шёлковыми манжетами и улыбаясь дерзкой кинематографической улыбкой, исподлобья смотрела на Анино лицо. — Давно не виделись, — небрежно ответила та, щёлкая пальцами по крышке часов, подсознательно желая только одного — услышать наконец долгожданный звонок на урок. Когда Аня подняла глаза с часов на то место, где только что сияло восковое лицо Миланской с её проклятым неизменным пробором, той ужё не было, зато выросла откуда не возьмись уставшая Тоня Картошёва: — Привет, — робко сказала она. — Как мама? — спросила Аня, предполагая в глубине души, что та до сих пор у мамы так и не была. — Выздоравливает, — отпарировала нагло Карташёва, зная её предположение. Урок физики прошёл на редкость быстро. Вконец выбитая из сил учительница взволнованно и не в тему, пройдя все предварительные самоунижения совести и воли, поздравила Агнессу с возвращением в коллектив а затем последовала долгая ода московскому образованию, прочитанная видимо под впечатлением от встречи с ярким представителем его, только что покинувшим крыльцо школы: чёрную волгу видели все, и все были не меньше взволнованы. Только одна Агнесса до конца не понимала сколько беспокойства вызвала и не меньше — ненависти. Некоторые слабые и подчиняющиеся начали чувствовать в её присутствии страх, страх подобный чувству не индивидуальному, а родовому общинному, когда он у всех, и чаще всего лишь потому, что никто не мог объяснить его. Брезгливо выслушав этот монолог, Агнесса внутренне пожалела, что позволила подвести себя к школе на автомобиле, хотя всё-таки что-то ей во всем этом раболепии нравилось. Следующая перемена была долгой. Это была любимая перемена старших классов, когда все собирались в столовой на первом этаже и обсуждали постигшие проблемы. У длинного прямоугольного стола, опираясь руками на спинку стула, стоял Витя и чувственно прожёвывая какую-то булочку, слушал одноклассника, не понимающего, как можно переводя в косвенную речь, спускаться на тон ниже, когда все времена уже исчерпаны. Рядом, подбочинившись, стояла и покачивалась на своих толстых ногах грозная медсестра, следившая за порядком в столовой а так же за тем, чтобы все доедали то, что им положено. В её правила так же входило следить каждый ли ученик тщательно прожёвывает пищу и задвигает за собой стул, но здесь уже её власть теряла свою силу и приходилось ограничиваться только грозным взглядом из-под густых поседевших бровей. — Рябушева, с ума сошла, — сказала Тоня, окуная что-то похожее на длинною баранку в какао, от которого разило кипятком такой крутизны, что по меньшей мере можно было вспотеть. — Я? — Таня, довольная тем, что её упрекают за самоотверженность, бойко ( не соответствующе температуре ) перемешивала жёлтый кубик масла в белоснежно-приторной рисовой каше. — Ну зачем в школу переться? — А что, если хочется? Соврасова, которая всё это время стояла в стороне, но слышала весь разговор и понимала о чём речь, медленно подошла к Тане сзади: — Ты покушай, — сказала она вкрадчиво, — может быть полегче станет, пищеварение придаёт жизненную энергию, — с этими словами она улыбнулась, но не нахально и деланно, как полагалось в таких случаях, а вполне искренно и нежно. Таня не ответила, но кушать принялась с непревзойдённым усилием. — Ну что, Ань, Миланская рассказывает что-нибудь о Ленинграде? — спросила Тоня, которой было всегда во время еды о чём поговорить. Аня не ответила, стуча чистой алюминевой ложкой по деревянной поверхности стола, она посмотрела на Тоню пристально, напряжённо сжимая губы и пытаясь перебить ей её отменный аппетит. Последняя перестала улыбаться и перестала живать, секунду она подумала, смотря сквозь Аню и надо сказать, сцена эта имела со стороны вид весьма дерзкий. Наконец, доживав медленно сдобу, она проговорила: — А мне не нравится всё это. Школа у нас какая-то буржуйская... День рожденья директора мы отмечаем ( никто из школ не отмечает, а мы, как истуканы, в парадную форму выряжаемся ), и доченек известных управляющих мы поздравляем с приездом и прямо все у нас перед всеми расстилаются, и у Ромочки папа в РАППе работает, поэтому его слово на уроке литературы слушается в гробовой тишине, и у Леночки — то Ходуновой у нас мама в доме актёра работает, уж не знаю что она там делает, но в кружки и на постановки любительских спектаклей в нашей школе её берут нещадно, и всё-то у нас, как у настоящих комсомолов, ой как мне это нравится, староста, — сказала она на деревенский манер, зло смотря Соврасовой в глаза, — и сама не знаю, что это на меня нашло?! — заключила она вполне театрально. Таня доела кашу и молча смотрела на старосту, тихо водя ложкой по пустому дну тарелки. — Что на лозунги потянуло? — спокойно спросила Аня, — Или аппетит в красноречие ушёл, Тонь? В это время звонко и навязчиво прозвенел звонок, поэтому Тониного ответа никто не услышал, хотя она говорила его с явным желанием похвалы. Аня быстро удалилась, спеша размашистым шагом к лестнице, а Рябушева, когда звонок стих и толпа учеников потянулась к выходу из столовой, подошла к Тоне ближе и глупо смотря на неё исподлобья, неуверенно, и явно не осознавая что именно спрашивает, осведомилась: — Тонь, а что ты сказала? Раздражённая Картошёва провожала глазами Соврасову, смотря через головы: — Что я сказала? — её взгляд блуждал и руки нервно сжимали Танин локоть. — Я сказала, что скажу когда-нибудь этой Агнессе всё, что о ней думаю. Таня усмехнулась: она бы хотела поприсутствовать. — Соврасова бы потом носа в твою сторону не повернула. Картошёва удивлённо посмотрела на Таню и, долго держа на ней взгляд, сморщилась: — Где твоя преданность? — она было рада хотя бы на секунду оказаться в роли подавляющего лидера, чего ей давно уже не приходилось делать. — Ну я же не сказала, что это плохо, — грубо ответила та, чем обескуражила Тоню на весь оставшийся урок русского языка. |
||
По окончании урока, классная громко произнесла дежурных по школе на предстоящий день и перед тем, как отпустить, снизив голос попросила: — Аня, останься пожалуйста. Агнесса, — сказала она уверенно,но ласково, — я бы и тебя попросила. Девочки молниеносно, забыв всю холодность отношений, переглянулись с самыми искренними и заинтересованными взглядами ; для обоих причина этой просьбы была не известна. Надо отметить, что не было в классе ни одного человека, который бы не удивился, не ужаснулся или не заинтересовался бы этой просьбой. Все медленно начали собирать сумки, Гуськов первый простился, Картошёва напряжённо посмотрела на Аню, Таня сделал такую гримасу, будто ей предстоит защищать Соврасову на суде, Аня потупившись стояла у окна. Когда дверь за последним человеком захлопнулась, литераторша усадила Аню рядом с собой на твёрдый стул, а Агнессу посадила напротив. Воцарилось секундное молчание. — Агнесса, — наконец начала учительница, — тебе хорошо известно о том, что ты имеешь очень большое на людей влияние. Мы и сами, наш коллектив, видим, что девочка ты далеко не простая, я не имею ввиду... — она запнулась, Аня смотрела на неё всё это время широко раскрытыми глазами, краснея за то, что она при этом присутствует, — я не имею ввиду твоё социальное положение. Сложив руки и выпрямив позвоночник, Миланская, не мигая смотрела на классную, даже и не думая замечать чьё-либо ещё присутствие рядом. — Ты понимаешь, что все очень смотрят на тебя. Я должна была это сказать, но я молчала, потому что думала, что всё ну... наладится. Но ты не меняешься. Нельзя так,Агнесса, я в присутствии старосты класса тебя прошу, чтобы ты дала мне слово перед лицом человека, уважаемого тобой, человека, с которого у нас все берут пример, который представляет наш класс в лучшем свете, как гордость школы, — ты должна исправиться. Ты слишком яркая, Агнесса, не нужно... нельзя выделяться, понимаешь? И если ты не привыкла к такому, это ещё ничего не значит. В конце концов, ты — комсомолка, ты должна стыдиться не быть как все. Я знаю, что вы со старостой дружите, — при этом она положила руку на Анино колено и взглянула на неё. Та сидела сама не своя, пылая пунцовым огнём, не сумев сдержаться, она отдёрнула руку литераторши и не думая, вскочила со стула: — Не нужно продолжать, я не была предупреждена об этом разговоре, я не согласна ни с единым словом, сказанным здесь... и я не понимаю... Испуганная учительница перебила её: — Но Аня, я возлагаю такое невероятное доверие на тебя, я знаю, что только ты, как староста, можешь повлиять. Соврасова сорвалась. Схватив сумку, она твёрдыми шагами пошла к двери: — В таком случае я отказываюсь от своей должности, — почти на хрипе крикнула она и с размаху захлопнула за собой дверь так, что окна задребезжали. Когда они остались в одиночестве друг на против, Агнесса придвинулась лицом к онемевшей классной, у которой душа ушла в пятки от осознания всего только что ей сказанного, и почти шёпотом спросила: — Можно я буду старостой? Ошалелая учительница задохнулась: — Чт.. — что? -Ну вам же нужно, чтобы на неё кто-то повлиял? Проникаясь заговорческим тоном Агнессы, классная тихо спросила: — На кого? — На эту вашу Агнессу Миланскую. Наступило молчание, обе застыли в позах нападения. Наконец Агнесса раскрыла сумочку и, вынув оттуда флакончик «Красной Москвы», принялась в упоении душить виски и мочки ушей, что было запрещено в школе категорически, как и использование какой-либо вообще парфюмерии. Медленно закончив трапезу, она сложила флакон обратно и подняла глаза на учительницу. Той показалось, что зрачки Миланской сузились в вертикальные пластинки и взгляд стал каким-то змеиным, она непонятливо и отупело смотрела в них, не способная изменить обстоятельства. — Я собственно не это хотела сказать... У вас серьёзные проблемы с головой, — начала Агнесса в полголоса, — и что-то с памятью. Вы постоянно всё путаете, не стоит так забываться — контролируйте себя. Сегодня на уроке вы семнадцать раз назвали Наташу Ростову княжной Элен, а Элен Наташей Ростовой...это непростительная ошибка, — Миланская поднялась со скамейки и, подходя к двери, продолжала смотреть на загипнотезированную учительницу, — контролируйте себя — нельзя же так роково ошибаться...? Дверь за ней захлопнулась. Когда в классе наступила тишина и учительница осталась наедине с собой, непостижимая жалость к себе прокралась в её душу скользкой змейкой. «У меня действительно скалероз? — подумала она — Ну и что... я же не могла забыть, кто в нашем классе староста » — заключив эту мысль она попыталась снова вдуматься в неё и найти хоть сколько-нибудь логичности в ней, но, увы, всё перепуталось у неё местами и в классе стоял запах медно-хвоёвых духов из прямоугольного флакончика «Красная Москва», казалось, что его пролили здесь, как спирт. |
||
ГЛАВА 20 Следующий школьный день начался рано. Склонив голову набок Соврасова с интересом наблюдала за высокой широколобой девочкой с длинной русой косой — старшиной комсомольского отряда. Она стояла за лакированным столом в пионерской комнате на фоне красного знамени с профилем Ленина, обрамлённом пылающим костром. Чёрная выцветшая юбка русокосой девочки была изрезана тысячью глубокими горизонтальными складками и Аня с тоской уставилась на них, считая каждую параллельную. Здесь в 7 часов утра собирались каждую последнюю пятницу месяца или первый вторник уже месяца начавшегося, старосты четырёх старших классов, а так же их старшины и активные кураторы комсомольской организации. — Мы ведём не воспитательные работы, а общественно-организационные, Аня, — сказала коренастая, смуглая девочка с распущенными грязными волосами и пухлыми, неровного цвета руками с коротко остриженными и неровными ногтями, что явно свидетельствовало о её социальном положении. — Я и не скрываю, — продолжала она, — что в нашей школе учатся одни из самых благоустроенных детей Москвы, да, здесь учатся ребята достаточно уважаемых и в партии и в культурной и в просветительской деятельности людей, но это не даёт права им думать, что они лучше остальных, они ничуть от них не отличаются. И ты должна это понимать. В твои обязанности входит следить за обстановкой в классе, и поддерживать дисциплину. — У нас очень дисциплинированный класс, — еле сдерживая раздражение сказала Соврасова, резко поднявшись со стула. Все три старосты других старших классов устремили на неё свои взгляды. — И мне так кажется, т — ихо сказала темноволосая, спортивного сложения девочка с широким лицом и выдающимися вперёд скулами, это была староста одного из девятых классов, Света Ростенко, которая восхищалась Соврасовой не только, как человеком, но и как комсомолкой, а от того не признавала никаких обвинений в её адрес. — Да, — согласилась коренастая старшина, тяжело шевеля неаккуратными губами и беспрестанно облизывая их, — мы согласны, класс действительно дисциплинированный и ведёт активную деятельность в жизни школы, очень нам нравится Таня Рябушева у вас, прекрасные вечера устраиваете, молодцы. — Да, и спортивные достижения у вас не маленькие, мы тоже согласны и следим за всем этим, — вставила более ласково, чем предыдущая другая староста с русой косой в измятой юбке. — Но, эта дочка просветителя, — язвительно продолжила черноволосая, — она непростительно выделяется из общей массы. Дочкой просветителя комсомольская старшина неостроумно назвала Милунскую, посчитав, что её отец, работающий в системе образования Москвы, непременно — просветитель. Обе старшины не были знакомы с Агнессой, хотя конечно видели её и каждый раз, когда встречали, въедались в неё глазами. — Я не считаю нужным обращать на это серьёзное внимание, эта девочка училась в Америке по меньшей мере пол года, она могла не привыкнуть ещё к тем распорядкам, которые ведутся в этой школе, — не мигая ответила Аня и её голова с убранными в маленькую кичку волосами, запрокинулась. Она стояла, опираясь на спинку стула и слегка покачиваясь всем корпусом. — Но, ты понимаешь, что это неприемлемо, она одевается как буржуйка, — почти грубо сказала коренастая девочка. — Скажите спасибо, что она не всегда говорит то, что думает, а в большинстве случаев вообще молчит, — ответила Соврасова и увидела, как присутствующие в комнате разом вытаращили на неё глаза и затаили дыхание. — Соврасова, — хлопнула по столу вспотевшая старшина, — я всё понимаю, я очень, очень уважаю тебя и... твои... достижения. Но! — этот предлог был выкрикнут с особым пафосом, который предполагал произвести эффект угрожающий, — ты с этой девочкой должна поговорить, иначе мы примем меры. Наступило молчание и прозвенел звонок с нулевого урока, все посмотрели на часы: совещание закончилось. — Хотите иметь с ней беседу? — Аня вздёрнула брови, её лицо осталось по-прежнему серьёзным и оскорблённым, — я вас предостерегаю от этого шага, но если всё-таки решитесь — вспомните мои слова. — Да кто такая эта новенька? — разъярённо закричала черноволосая социально несостоявшаяся старшина комсомольского отряда, когда Соврасова покинула комнату, — она ещё поговорит у меня. Русоволосая подруга посмотрела на неё с опаской: ей Агнесса не внушала уверенности и она всецело была готова смириться с её индивидуальностью, нежели «иметь с ней беседу ». |
||
* * * Расстроенная и раздражённая началом учебного дня Аня сидела за низкой партой в узком длинном классе на первом этаже и без каких-либо признаков внимания слушала Ходунову, которая напряжённо впиваясь глазами в учебник английского языка тихо читала текст о достопримечательностях Москвы, мягко произнося шипящие и рыча по-русски многократную «р». — Ну и досталось же мне сегодня, — бойко сказала Тоня, входя в кабинет и направляясь к парте за которой увидела Соврасову. Аня не проявила никакой инициативы к этим словам и продолжала раскрашивать квадратики в тетрадке. — Второго урока не будет, все расходимся, — громко объявил кто-то и четырнадцать юношеских голосов отреагировало дружным «ура». — Как так? — спросила Аня, поправляя манжеты рубашки и широко раскрывая глаза. — Совещание у учителей, — ласково объяснили ей. — Ну, девчат, пойдём в гардероб? — предложила Лена. В гардеробе после уроков собирались старшеклассники, чтобы поговорить об успехах и поиграть на гитаре. — Нет, — сказала Аня ритмично раскачивая головой, — я не пойду. Лена с Картошёвой незаметно переглянулись. — Я приду, — улыбнулась Тоня и отослав ласково рукой Ходунову, подсела к Ане, которая не двигалась с места. — Ань, извини, — громко сказала Тоня и её голос разнесся эхом на пустой деревянный класс. — Забыли, — кивнула Соврасова, смотря на обложку своей тетради. — Ну что? — спросила та. — Ни — чег — о... Наступило молчание и потом вдруг кто-то за дверью рассыпал медные деньги. Тоня тяжело вздохнула и подумала только бы Аня не спросила про маму ничего. Но Соврасова тихо усмехнулась: — Дура, — сказала она, — я и сама вижу, что они правы. Картошёва всё поняла: — Да, ты представь, если бы вы не были знакомы. Ты была бы первая, кого эта навязчивая вычурность возмутила. — Вычурность? — Аня спросила так, будто не расслышала. — Да. Соврасова прищурилась в задумчивости смотря в пол: — Да, если бы... но мы знакомы. И всё же я ничем не могу им помочь, я не собираюсь разговаривать об этом с Агнессой, я ничего не изменю, она тоже, с этим нужно смириться, в конце концов она же никого не тиранит. — Даа —? — Тоня нагло усмехнулась. — Ну во всяком случае — не их, — добавила Аня. — Аня, но в этом её поведении действительно есть что-то подавляющее. — Она никогда себя не превозносит, другие это делают за неё. В том, что из почитания её отца сделали в нашей школе культ — не её вина, поверь мне. А она бы и рада не быть замеченной. — Ты очень уж хорошего мнения о ней. -Да нет, я говорю то, что знаю. — А если ты не знаешь ничего? — Ну что же, быть дурой, так уж — до конца. Если не знаю, то и не хочу знать и верить. — Слушай, — Тоня выпрямилась и посмотрела на подругу — а когда вы не были знакомы, она не подавляла тебя своей манерой общаться? Аня покачала головой: — Нет, она меня настораживала и всё. — И что, неужели ей просто нужно было вот так себя вести, чтобы заставить тебя слепо ею восхищаться? — В её жестах была, — она помолчала —... и есть такая сила, которая способна меня заставить преклоняться. Тоня довольная откинулась на спинку стула: наконец-то она услышала это слово от непобедимой Соврасовой. — Какая сила? — спросила она. — Утешение, — Аня сдвинула брови и наклонила голову, — утешение, Тоня. Это то, что делает сильным перед всеми — способность утешить. — Она такой обладает? — спросила удивлённо Тоня, уверенная в обратном. — Я помню мы у её дяди на даче были, в июле того года. Дача — под Ленинградом. Нас в гости пригласили вместе со всеми, там была большая компания, очень много человек, — Аня посмотрела на Тоню, как бы думая рассказывать ли дальше, её лицо выражало какое-то скрытое, сильное страдание, делающее её безгранично беспомощной и жалкой. — Ну, что, — Тоня придвинулась ближе, завороженная Аниной проникновенностью. — Да, — решилась она, — там было много человек. Мне было плохо, плохое настроение, душевная боль, какая-то обида, неясность, предвкушение отъезда и плюс ко всему этому ещё отца отстранили от службы, мы поссорились. Я тогда почти ничего не ела за столом, сидела в этой шумной массе какая-то потерянная...очень много пила, что-то втайне от других, что-то уже не скрывая со всеми. Вино выпили целую бутылку, литр, я ещё шампанское попробовала. Агнесса была рядом, она не запрещала мне, а только говорила, что я — маленькая и скоро стану мертвецки пьяной. Ну ты знаешь, а мне-то всё равно было...Ушла в комнату, там недалеко от веранды, хотела, чтобы ветер хотя бы освежил, комната было тёмная, огромная в коврах, я до сих пор её помню. Мне стало невыносимо плохо, в висках как будто лёд, голова кружится, в глотке что-то поперёк встало, вот-вот расплачусь. Агнесса со мной вышла, сказала «Я же говорила плохо будет». А мне было всё, как об стенку. Я только на ковёр села и говорю: «Какой красивый ковёр». Это её дядя привёз из плаванья, мамин брат, обожаемый человек. Я любила его больше собственного отца, все любили, все, все его любили, только судьба — нет. Аня сидела, опустив голову к груди, её голос становился всё более тихим, слова менее отчётливыми, Тоня, напряжённо скрестив пальцы смотрела на её губы, по которым уже текли слёзы, стекали и падали на синюю юбку. — Аня... — она медленно положила свою руку ей на плечо. — Ну вот, — вдруг, повысив голос и набравшись сил, сказала Соврасова, — вот и всё, я села на этот чёртов ковёр и меня просто прорвало ; слабость — убийственная и как начало меня рвать. Я металась минут пять без остановки, не в силах сдержать себя, из меня лилось. Лилось всё, всё, что я съела на завтрак, весь обед, слюна, ещё что-то и всё это с вином, понимаешь, меня рвало, просто по-настоящему, разрывало. Когда всё закончилось, я разрыдалась, силы откуда-то взялись... Посмотрела на неё, она сидела рядом. Только спокойно взяла меня за плечи и сказала: «ну вот и всё, а хуже уже не будет». И принялась убирать всё это... ты понимаешь, убирать своими собственными руками, не брезгая и даже не меняя выражения лица, — Аня ошеломлённо посмотрела на Тоню и лицо её порозовело, — ты представляешь, как за маленьким ребёнком — за мной... просто — загребает руками, своими собственными руками, красивыми пальцами, не снимая кольца, не закатывая рукавов. За мной убирала, мою рвоту, всю эту гадость... — Аня замолчала, — а потом сказала: «Не бойся, мы не скажем, что это ты»... Всё действительно обошлось. Никто ничего не узнал, я даже не знаю, что она для этого сделала, — Соврасова медленно расстегнула пуговицу рукава, — вот так, — сказала она — мне никогда не бывало с ней страшно, а в тот момент я поняла, что без неё жить не могу, потому что никто так никогда не смог бы... — Да, — тихо прошептала Тоня. — Поэтому я никогда в жизни не пойду против неё, даже если она будет не права. Не имею я на это сил, в долгу я у неё... — Что теперь на всю жизнь? — Да нет, — Аня всхлипнула, — хватит...хватит об этом говорить, не хочу. Ненавижу её, ненавижу, всё забудь о том, что я сказала. Тоня забарабанила пальцами по столу и отвернулась, не охваченная никакими мыслями, её так обуревало волнение, что в голову ничего не приходило, очень как-то холодно было ей и хотелось быстрее, как можно быстрее что-нибудь предпринять. Тут в класс заглянула голова Рябушевой: — Тонька, — сказала она взволнованно, — мы же ждём тебя. Она не смотрела на Аню, зато та упёрлась в неё своими яркими зрачками и, казалось, что Таня отражается в них, но не просто отражается, а сама это видит, как в зеркало, и немножко кривляется, чтобы больше себе нравиться. — Аня? — Тоня поднялась с места и посмотрела на Соврасову, как бы предлагая. Та, ритмично раскачиваясь, закачала головой и опустила глаза на тетрадь, всё ещё лежавшую рядом. «Ну, быстрее», — мысленно подгоняла Аня Картошёву: ей хотелось не просто того, чтобы они ушли, а прежде всего неистовое желание остаться одной и обдумать всё, только что ею вспомянутое, вселилось в неё, но Таня, стоявшая всё это время за дверью и только изредка показывающая свою красивую голову, вдруг переступила через порог. Она крепко сжимала в руках папку с тетрадями. Обе посмотрели на неё. — Слушайте, девчонки, — проговорила она. Аня напряжённо смотрела на неё исподлобья, втянув в себя лицо напрягая ноздри. — Слушайте, какая беда, — сказала она и её подбородок, маленький и круглый, дрогнул, сделав лицо ненастоящим, каким-то кукольно-смешным, — у Ромки отца выгнали из РАППа. Тоня ахнула, Аня нахмурилась и лицо её сделалось таким, будто ей приходится переживать предсмертную острую боль. — Что? — спросила она вниз грубым голосом. Таня только кивнула головой, всё ещё дрожа подбородком в знак подтверждения слов, только что ею произнесённых. — Откуда ты взяла это? — спросила Тоня, которая уже явно руководствовалась желанием как только можно быстрее уйти отсюда, дабы не смотреть на Аню, не чувствовать затылком её взгляда и не слышать её какого-то слишком взрослого, трагичного при каждой интонации голоса. — Он сказал Ленке, она только что от него. Таня с Картошёвой переглянулись и тихо вышли за дверь. Соврасова сидела в полном онемении, вытянув на парте руки и смотря спокойными глазами в лакированное своё отражение на ней. Выйдя за дверь, Рябушева облегчённо вздохнула, а Тоня приняла прежнее испуганное ( испуг — от только что услышанной Аниной истории ) выражение лица: обеим было поразительно наплевать на произошедшее, они знали, как и все остальные, что Акерманна в этом классе понимает только Аня и если это и будет для кого-то, кроме самого Ромы ударом, то этим человеком непременно окажется именно староста. |
||
ГЛАВА 21 Всё-таки Рома бы не решился никогда первым позвонить Ане и сказать о своём горе. Да, что-то было в ней такое, что, не смотря на её отзывчивость и ласку, не позволяло просить о сочувствии. Ещё одна мысль останавливала его: Витя. Он знал, что они были в ссоре и было бы некрасиво с его стороны почти пользоваться этим. Аня сама пришла. Она позвонила в дверь в восьмом часу вечера, когда ещё никого, кроме Ромы и его бабушки не было дома. — Ох, уж эти мне, одноклассники, — сердито прошептала та, когда Аня, не меняя строгости в лице поздоровалась с нею и прошла, почти бесцеремонно, в прихожую. Рома не вышел, он думал, что это — отец и не стоит выходить и встречать его. — Рома, — тихо сказала Аня, остановившись на пороге огромной, стеклянной комнаты с тяжёлыми, как в ложе театра занавесками на окнах. Она знала, что он узнает её голос сразу же и поэтому не прошла в комнату, готовая развернуться и уйти. Он резко повернулся на пятках с красным от волнения и вечных слёз, которые он растирал руками, лицом: — Анька, — с внезапно вырвавшейся нежностью выдохнул он. Она подошла к нему, он тотчас сел на кресло и притянул её рядом с собой. Аня села: — Я всё знаю, не объясняй, Рома. Он быстро закачал головой: — Им нужно было читать о коммунизме, читать о коммунизме, о котором они читают везде, повсюду и даже в одних и тех же словах ; а он писал о проблеме человечности в прозе, понимаешь? Аня кивнула: эта тема ей нравилась. — Понимаешь, он всё сам знал. Он знал, что — нельзя, но думал, что уважение к человеку, что человечность сильнее порядка.... Аня напряжённо посмотрела на ярко-освещённый пол, его лакированная жёлтая, как тыква, поверхность раздражала её. — Всё, — панически боясь отпускать Аню и оттого ещё крепче сжимая её руку, которую он всё это время не оставлял, сказал Акерманн — всё, теперь он — никто. Он — никто, пустое... нет, — осёкся он — нет, он — враг! — Хватит, — жалобно попросила Аня. — Я теперь сын врага, Аня, — продолжал Рома, смотря на неё своими светлыми зрачками. — Не говори этого, прошу тебя. — Не говорить? А какой смысл молчать? Всё — правда, что ж молчать-то? — Нет! — разозлённая его заразительным волнением, выпалила она. — Ладно, — он махнул рукой, — в классе что говорят? — Ничего. — Заговорят ещё, — он ухмыльнулся, вид его совсем перестал походить на прежнего Рому, черты лица обострились, глаза посветлели и моргали часто, волосы, взъерошенные и блестящие от чистоты, падали на лоб и уши. — Никто не думает поднимать это, как всеобщую проблему, — ответила она голосом старосты, что часто действовало успокаевающе. — Так, не вы... учителя же загрызут сочувствием. — Рома, — Аня хотела встать, но он очень резко прижал её руку к дивану ; она села, удивлённая своим спокойствием, — хватит. Я знаю, что это невыносимо трудно пережить, ну так ты не обвиняй людей, находящихся рядом, а наоборот — ищи в них поддержку...ты думаешь, что всё — неправда? Откуда такое дикое неверие, Рома? — Отца они убили, — почти срываясь на рёв, прокомментировал он, — он же теперь в больницу ляжет, у него же здоровья никакого...что понятно им, всем же наплевать. Ане не нашлось что сказать, она понимала, что он — прав. Во всём от и до — его правда, и что сомневаться в этом или вводить в сомнения тем более — глупо. — Что я могу для тебя сделать? — уверенно спросила она, расчитывая только на свои силы, но на них — окончательно и бесповоротно. Она повторила вопрос и он незаметно покосился на неё, сидящую рядом полностью прикованную к дивану его сильным сжатием руки. — Ты... — он остановился, сказав это, и, в полнейшем, каком-то стерильном молчании повторил, как заколдованный, — ты! — почти торжественно прозвучало это. В комнату заглянула бабушка, жуя кусок яичного хлеба. Она безмолвно оглядела их, сидящих рядом. Рома не обратил на неё ни малейшего внимания, Аня, мельком взглянув, отвернулась с равнодушной маской снисхождения. — Долго ещё? — наконец спросила та, обращаясь к обоим и имея в виду Анино присутствие в этой квартире. — Ко мне пришли, — сказал Рома, подняв голову и сделав ударение на личное местоимение. Он вдруг сделался совсем не беспомощным и нежным, а каким-то по стервозному злым и обиженным. Аня заметила это и стала с интересом ( бесстрашным интересом, не дающим думать о последствиях ) наблюдать за ним, причём так явно, что он заметил. Когда бабушка закрыла дверь, Акерманн взглянул на Аню и не меняя только что появившегося у него злого выражения глаз, сказал: — Она сейчас всё равно выгонит тебя. Аня склонила голову на бок, она уже почти забыла, зачем пришла сюда, чувствовалось, что происходит что-то особенное, что-то совсем ещё не ведомое в её жизни ; такие моменты обычно никто не может уловить и Аня тоже не умела, но сейчас она почувствовала или даже как будто услышала, подобно тому, что кто-то сказал ей на ухо, что все начинается именно сейчас и, чтобы она не смела уходить, потому что тогда что-нибудь потеряет и уже навсегда. Завороженная этим чувством, Аня широко раскрыла глаза на Рому и почувствовала, как что-то вдавило её напрочь в диван. — Завтра в школу ко второй смене, — тихо сказал он, — так ты... — его речь становилась более расчётливой, появлялись какие-то совсем неуместные паузы, с монотонного речитатива она стала звучать на разные лады, — ты зайди завтра ко мне, утром... ну... в... первой... половине...дня, — Рома проглотил слюну и разжал её руку. Только после этого она поняла, как крепко он её держал: рука совсем ослабла, «задышала», пальцы онемели и кисть вся была красной и какой-то помятой. Аня встряхнула рукой и вздохнула: — Хорошо, — сказала она, всё ещё чувствуя, что выполняет какую-то сверх важную миссию, — конечно приду. В дверь позвонили, звонок был не многократным, тяжёлым и громким. Выходя из глубины квартиры в сопровождении Акерманна, Аня увидела в прихожей насквозь промокшего от снега и озадаченно расстёгивающего своё пальто Витю. Они встретились глазами. — Молодец,... спасибо, что зашёл, — всё ещё не меняя своего тормозного склада речи, строго сказал Акерманн. Аня обернулась на него, чтобы посмотреть какое у Ромы лицо, когда он говорит так, но он тоже посмотрел на неё, блеснув глазами, влажными и даже немного липучими, да так блеснув, что со стороны можно было подумать, будто между ними только что что-то произошло, в чём они оба ещё не отдают себе отчёта но уже, встретив первое третье лицо, вторгнувшееся в этот интимный союз ( а именно Витю ), уже чувствуют какой-то стыд, причём не перед третьим лицом и не друг перед другом, а перед самими собой. Соврасова быстро отвела взгляд, желая только того, чтобы Витя ничего не заметил, но тот, быстро снял ботинки и прошёл в комнату, аккуратно и кропотливо закрывая за собой занавеску, разделявшую вход в гостиную с прихожей. Аня улыбнулась, стоя уже у открытой двери, и почувствовала себя, как торговка, только что прошедшая все унижения, чтобы продать свой товар и наконец добившаяся своего, но униженная в конец. Только она не могла пока понять чем вызвано это чувство и что именно всё таки она только что продала, и за что унизилась, и как именно она, собственно, унизилась ; показательно было однако то, что она очень напряжённо это чувствовала и не сомневалась в том, что интуиция не обманывает её. — Я приду завтра, — уверенная в том, что говорит, сказала она. Он кивнул и стал каким-то совсем прежним, без злобы во взгляде и неуместного торможения в интонациях: — Хорошо, — просто сказал он. Аня медленно спускалась по лестнице, рука её, которой она держалась за перила вспотела. «Странный», — подумала она. Мысль была ещё не докончена и, хотя первое слово и было произнесено шёпотом, всё-таки она ещё не додумала к чему или кому относилось это определение... «Странный день сегодня,» — завершила она через силу, зная, что совсем не это хотела сказать, потому что и мысли у неё были отнюдь о другом и рука... рука всё ещё болела. |
||
* * * — Помнишь, ты сказала: бежишь за тем, что попросту за твоей спиной? — спросил он, заглядывая в глаза Ане. Утро было поздним, жарким и снежным. Аня посмотрела на часы и перевела взгляд на его напряжённое лицо. — Да, — сказала она неприветливо. — Ну так вот и я понял, что это значит. — Что это значит? — Это значит, Аня, что я бегу за тем, что могу просто здесь и сейчас пощупать и зажать в кулаке. Соврасова вспомнила то чувство пугающей гнетущей интимности, установившейся между ними вчера и вспомнила о своём непонятном страхе, о мысли о какой-то миссии, о чём-то ещё неизвестном. — И что же? Рома оглядел комнату, она была насквозь освещена ярким лучом зимнего солнца, циферблат больших настенных часов сверкал, занавески пропускали какой-то тёплый, неопределённый свет. Он подошёл к ней сзади, Аня стояла у окна, спиной к нему, пытаясь не поворачивать голову и не чувствовать взглядов, хотя последнее совсем плохо у неё получалось. — Аня, — сказал он опять тем новым, непривычным, каким-то больным голосом, который появился только вчера. Соврасова не обернулась, но к чему-то приготовилась. — Ты не так это понял, — вдруг сказала она, — ты не то понял. Он кивнул, его совсем не интересовало то, что она говорит. Развернув её к себе и пахнув на неё своим чересчур вылитым на шею и волосы тошнотворным одеколоном, он потянул за воротник рубашки и схватил со всей силы липкими, с мажущей, тянущейся слюной, губами её рот. Она, не сопротивляясь, обвила руками его упругую, неподатливую, каменную шею и, почти с усилием пытаясь не открывать глаз, напряжённо отвечала на его поцелуи. Акерманн продолжал с напором и животной страстью облизывать губами её рот, поглаживая спину спуская руку на талию. Аня поняла, что если сопротивления не последует, то всё зайдёт слишком далеко. Аккуратно взяв его за плечи она, однако с силой, одним размашистым рывком, отстранила его от себя. Но он, щурясь от солнца и облизывая светлые, пухлые губы, только перевёл дыхание и опять зажал её в своих тисках, как кошка обтираясь об белоснежную кофту, наполовину расстёгнутую на её груди, всем своим до обморока сдавливающим запахом. Она могла бы попросить его, но ей не хотелось, казалось это слабым и ничтожным, а главное ( что ужасно ) почему-то не верилось, что он услышит. Когда его ладонь грубо пролезла под рубашку, Аня схватила её и, не боясь порвать пуговицы, отдёрнула от себя, одновременно со всей силы ударяя в грудь. Он отскочил и машинально, почти не обдумав и не контролируя себя, всё ещё влекомый страстью и желанием прикасаться к ней, с размаху шлёпнул пощёчину, растрепав её волосы. Голова отскочила к стене, Аня ударилась лбом и сжала скулы. Он смотрел на неё исподлобья, наслаждаясь её разгоряченным, возбуждённым видом. Медленно застегнув рубашку, она легко отстранила его рукой и отошла от окна. Сдерживать себя не удавалось. — Это всё, что ты хотел? — спросила она не своим голосом. — Не всё ещё, — ответил он тем самым, размеренным и больным. Аня повернулась к нему всем телом, близко подошла, схватив за воротник и откинула к подоконнику, всё ещё не выпуская из рук. Акерманн не сопротивлялся, ему казалось, что в любой момент он сделает с ней то, что хочет. — Ничего не получишь, — прошептала она и секунду ещё посмотрев ему в глаза, вдруг стрелой вылетела из комнаты. Он не догонял. Страх вернулся к нему. Когда дверь за Аней захлопнулась, Рома услышал тиканье часов, он не понимал, почему стрелки движутся так неритмично ( ему так казалось), все в комнате было каким-то странным: и часы на стене, и портретные рамки и пуговица на блестящем полу, маленькая пластмассовая пуговица, отлетевшая от её рубашки. Ко второму уроку приходить было уже слишком поздно. Аня шла быстрым шагом по ледяному тротуару, всё казалось чересчур нелепым, чтобы в чём-то ещё раскаиваться и о чём-либо жалеть. «Зато я теперь свободная», — подумала Аня. «Свободная» — это то слово, которое она спрятала в глубь себя, чтобы никогда его не вспоминать, потому что оно было не применимо к той самой, режущей по собственной воле пальцы и по безволию страдающей, старосте, которую так хотелось каждому ставить в пример. Но теперь почему-то эта свобода так необъяснимо дала о себе знать. «Ударить, ударить теперь смогу с размаху, и больше никто не подойдёт и не спросит, почему я вечно чего-то боюсь и страдаю, а если спросит кто-нибудь...врежу со всей силы, как вот он мне сейчас.» — сжимая скулы и сглатывая кислую, как будто чужую слюну, Аня улыбнулась, чтобы не заплакать и в этот момент за спиной кто-то крикнул её. Она обернулась со всей резкостью и поджаростью в движении, на расстоянии трёх или четырёх метров от неё, опустив руки в длинные карманы стояла Агнесса и издалека пронзала Соврасову своим чёрным взглядом, который теперь ей показался таким же ласковым и защищающим, каким она видела его два года назад. «Теперь нужно Ей всё рассказать», — подумала Аня и сжала руки в тонких перчатках не для того чтобы им было тепло, а потому что она скопила в них всю силу своего тела и души. |
||
ГЛАВА 22 Не было такого человека, который смог бы убедить Тоню не делать того, что она задумала. Никогда не противиться самой себе и не подчиняться никому, особенно, когда убеждают в обратном её удавалось бесподобно. Почти с какой-то альтруистической любовью к себе она никогда не ограничивалась просто исполнением своих желаний, нужно было, чтобы они исполнялись ещё и вопреки кому-то, что, быть может, подчёркивало ещё сильнее её нарцисстическую самоотверженность. Теперь её просили сходить к маме, которая лежала в больнице к тому времени уже месяц, но Тоня не только не хотела, но считала, что её принуждают ехать в дальний район огромной Москвы с тем только, чтобы постоять под дверью 40 минут и, опять, не дождавшись, уйти. Она посмотрела на отца стеклянными глазами: — А я тебе сказала, что не поеду. — Как можно так бесчестно поступать по отношению к матери? — холодно спросил чёрноволосый с густыми усами и неприятного цвета кожей мужчина, со всей силы ударяя себя подтяжками о грудь. — Я же сказала, что была у неё уже. И вообще, можешь тоже съездить, — сказала она резко но, пытаясь сдержаться, чтобы в её голосе всё-таки звучали слабые нотки угождения. — Ладно, я сам разберусь, — кинул он и вышел из светлой комнаты. Когда опять пошёл снег, а в квартире было уже пусто, зазвонил телефон. — Это я, — сказала поникшим голосом Соврасова. — Ну что? — участливо спросила Тоня, не зная что именно она имеет в виду. Ответ Ани был настолько металогическим, что Картошёва на секунду нахмурилась и ослабила руку, державшую трубку. — Кушать не хочется, — ответила та. Сообразив, Тоня спросила: — Ты поэтому сегодня в школу не пришла? — Нет не поэтому... — отрезала Соврасова и сразу же решительно утвердила — встретиться нужно... — Мне тоже... — сказала обрадованная Тоня, которая последний день думала только о том, что рассказала ей Аня про Агнессу. Когда обе повесили трубки, Аня задумчиво вскинула брови, как будто на неё кто-то смотрит и она исключительно для него это делает ; Тоня щёлкнула пальцами в воздухе, потому что ей все не на шутку надоели и позвонив именно в этот момент Соврасова угадала её желания с тончайшим ритмом. |
||
Они встретились в светлом кафе «Минутка», фронтально-плоскостная композиция которого была построена из витражей, придающих интерьеру исключительно воздушный и праздничный вид. Сев за первый у двери столик, расчитанный на четыре человека, Аня расстегнула пальто и поправляя волосы, попросила у официантки в накрахмаленном кокошнике кофе. — А мне какао, — сказала Тоня на ходу и с шумом отодвинула стул. — Села бы напротив, — попросила Аня Картошёву, которая села совсем в плотную к ней, образовывая таким образом между ними прямой угол. Как только эта просьба прозвучала, Тоня почувствовала прилив нарцисстической нежности и, придав взгляду некую аутическую напряжённость, отрицательно замотала головой: — Рассказывай. Аня, которая увидела в этом бессмысленном отказе, подражательство игре Агнессы Миланской, сморщила нос и после паузы спросила: — С кого повадки берёшь? Тоня сразу поняла, ей даже не пришлось напрягать мысли и переводить их в другую сторону: они вот уже вторые сутки подряд были направлены исключительно на один лад. Аня же, которой теперь овладела метанойя, испытывала явное отвращения к какому-либо наигрыванию и деланнию своей жизни. — Ну ладно, хватит, — сказала Картошёва, совсем не расположенная выяснять отношения, тем более что это могло помешать откровенно настроенной Соврасовой. Им принесли чашки. Дверью хлопнули и вошла шумная компания рабочих в запачканных краской, солянкой и ещё много чем комбинезонах, с косынками на головах. Одна полная женщина посмотрела на Аню, взяв в ракурс не только её лицо, но и синий пиджак с комсомольским значком, быстро пробежав по ней глазами, она повернулась к своей соседке: — Какая красивая девочка, — её голос прозвучал отчётливо над ухом Тони. Поняв, что громко сказанные слова относились не к ней, Картошёва встряхнула головой и выпрямившись, прищурилась: Аня действительна была красива в этом своём убитом, страдальческом, но каком-то неподдающимся сожалению образе со смотрящими вперёд глазами, отражающими как будто красное знамя, даже если его не было. — Мне все осточертели, — сказала Аня таким голосом, словно она как минимум отчитывается перед секретарём комсомола за проделанную работу. Тоня усмехнулась: — Мы похожи. — Завтра у Вити день рожденья, — задумчиво сказала Аня. — Что же помиритесь? — как будто уже заранее упрекая её за утвердительный ответ, спросила Картошёва. Утвердительного ответа не последовало, Аня медленно покачала головой. — И правильно, — быстро подбодрила та, боясь, что Аня изменит решение, — нечего ему уступать. Пусть сам сознается, что виноват. — В чём виноват? — В том, что не может ничего с тобой сделать... он должен помочь тебе, как же он этого не понимает? — Помочь? — Если любит. — А если я не его люблю? — Аня улыбнулась какой-то странной не своей улыбкой, в этой улыбки было что-то блудническое, как у опытной женщины, что-то соблазнительное. — А ты с ним об этом говорила? — Конечно нет. — А что же? — А что я буду ему говорить? — продолжала Соврасова напряжённо, не спуская с губ прежнюю улыбку, — что я люблю свою одноклассницу? Тут Картошёва поняла значение этой улыбки и, вспыхнув пунцовым светом на горячих щеках, быстро забегала глазами: — Ну причём здесь твоя любовь к Агнессе и... чувство к Вити Гуськову? — При том, что одно вытесняет другое. — Этого не может быть... — Что же это стыдно? — Я не знаю, я такого не сказала, я не понимаю. — Чего же тут не понятного, из того что я сказала? Так сложно понять значение слова «любить»? — Нет, ну просто, по-разному любят. Я знала, что ты очень любишь Агнессу, но Витя.. это другое. — Что другое? — Ну ты же понимаешь, что я говорю о другой любви. — Другой любви нет... — Слушай..., — Тоня отодвинула стакан с какао, чтобы ненароком не уронить его и, как по наитию, убрала от Ани её чашку с кофе. — Что? — Ну как это одна любовь? Идиотка... ты же понимаешь, что говоришь? — Конечно, я всё понимаю. — Староста, — почти плаксиво выдавила Тоня, как будто желая этим обращением произвести на Аню впечатление и остановить её перед чем-то. Соврасова перестала улыбаться и, повернув голову, искоса посмотрела на Тоню с удивлением и строгостью. — Ну ты же не будешь с этой Агнессой целоваться? — не выдержав, взвизгнула Картошёва. — О, Господи! — простонала Соврасова с таким страданием и ужасом в голосе, как будто испытала боль, какую чувствуют при разрыве суставов: она только теперь осознала всю откровенность и маразматичность ею сказанного. Она ведь совсем не то думала, что Тоня. Ей не приходило в голову, что можно задасться вопросом о том, будет ли она с Агнессой целоваться: любить человека не значило целоваться с ним... ( и наоборот ). Аня вспомнила Аккерманна, его губы, его тянущуюся слюну с привкусом горьких виноградных косточек: — Ты что совсем самообладание потеряла? — спросила Аня. Тут Картошёва почувствовала свою вину и всю позорную нелепость своего вопроса: — Нет, — испуганно ответила она. — Думай, когда спрашиваешь. Или ты хотела унизить меня? Тоня не знала куда себя девать, но она остро чувствовала, что нужно защищаться, чтобы не выглядеть окончательной дурой: — Да. — быстро ответила она. Всё ещё ошеломлённая от такого поворота темы, Аня сидела, уставившись в пол, ей никогда до сих пор не приходило в голову, что кто-то может так постыдно о ней подумать и тем более спросить то, что только что разнеслось на всё кафе ( как ей показалось) Тониным стальным голосом. — Ничего нельзя оставить, — прошептала она, — ничего. — Что оставить? — спросила испуганная Тоня, не зная как понимать Анин голос и слова, ею произнесённые. Соврасова встала, чтобы уйти, но Тоня схватила её за рукав: — Ну Анечка, — почти заплакала она, — ну прости меня, ради всего, прости... честное комсомольское, клянусь, я не знала, что думала, я не то... не то спросила. Ну, Ань... Аня взглянула на Тоню и опустилась на стул: — Да замолчи ты, — устало и безразлично прошептала она, — мне и не до тебя сейчас. |
||
* * * А о чём они собирались говорить сегодня в кафе, Аня не могла себе объяснить. Она уже второй час подряд сидела без движения, зажав между коленями ладони и смотря на край своего стола. Её показалось странным, что она упомянула при Тоне о Витином дне рожденье, потому что, назвав его трусом, она даже себе боялась теперь говорить о нём. Она и до сих пор считала его трусом, а теперь — ещё сильнее, потому что, когда Тоня сказала о том, что «он сам во всём виноват», Соврасова окончательно убедилась в своей правоте и оправдала себя перед лицом собственного произвола. Мысли накручивались со страшной силой, она открыла пенал и вытащила канцелярский нож ; образ Агнессы, стоявшей сегодня перед ней в своей шубе и ласково, как показалось Ане в тот момент, смотревшей на неё, сейчас отчётливо врезался прямо перед её глазами и стоял, казалось, за окном, которое было как раз напротив. Соврасова достала чистый лист бумаги, предусмотренный для того, чтобы не запачкать стол стекающей кровью и, даже не задумываясь, как это лучше сделать, полоснула толстым и острым лезвием по ладони. Кровь выступила, подобно краске, не скапливаясь в капельках, сразу полилась вдоль руки, пачкая серый свитер. Дальше — больше: Аня не боялась резать пальцы, она даже не чувствовала и не осознавала, что делает, на минуту, положив беспрестанно работающий нож, она быстрым движением выключила свет и опять схватила уже в полной темноте, ручку ножа. Всё делалось с такой мгновенной скоростью, будто она работает на время, как художник, боящийся потерять вдохновение во время нанесения красок на свой натюрморт, так и Соврасова, руководствуясь каким-то неограниченным, завладевшим ею чувством наитивизма, почти не чувствуя себя физически с одинаковой силой резала пальцы в состоянии какого-то морального экстаза, боясь разве что только умереть. Когда было уже слишком, Аня обмотала руку в одетый на ней свитер и медленно прошла в ванную. Там забинтовав её, она села на табуретку и посмотрела в низкое зеркало. Казалось, что от только что сделанного у неё образовались глубокие провалы под глазами, сухие губы застыли в недвижимом каменном выражении недоумения. Нужно было включить в ванной воду и наполнить её, но не хотелось двигаться. «Ну ты же не будешь с этой Агнессой целоваться?» — Аня услышала опять унизительный Тонин вопрос и чётко, как будто в зеркале вместо себя, увидела Миланскую с убранными назад волосами, в черном свитере. — Ведьма, — закричала она и ударив со всей силы перевязанной и ноющей от порезов рукой о косяк двери, зарыдала, пытаясь сдержать дыхание, чтобы голос её звучал не так громко. В это время уже не было ни одного человека, который бы не знал от Тони, о том, кого любит староста. |
||
ГЛАВА 23 Звонкоголосая девочка пела о том, как хорошо живёт Советская страна и, хотя радиоприёмник искажал её голос — он то потрескивал, то срывался, то внезапно перескакивал на четыре октавы ниже, всё-таки от песни унылая кухня наполнялась какой-то праздничной жалкой поэтичностью, которую обычно лелеют с притворной нежностью на лицах. Витя устало водил вилкой по растекающейся на тарелке массе желтка яичницы глазуньи. Он не мог заставить себя не слушать нескончаемую песню с постоянно повторяющёйся мелодией и словами в запеве. На столе он выводил пальцем сегодняшнее число: единица получалась слишком длинной, а восьмёрка — неполноценно сложенной, то есть с маленькой головкой и огромным пузом. — Поздравляем с днём рожденья ветерана войны,... — задорный женский голос, которому совсем не подходили эти слова, быстро отчеканивал поздравления от разных людей своим близким, радио передавало программу по заявкам. «Кому-то сегодня 65 лет, а мне — 18, и то, кажется, еле — еле дожил...» — подумал Гуськов и, зацепив вилкой поджаренный белок, шлёпнул его со всей силы об тарелку так, что жёлтая жижа забрызгала ему лицо и оставила на белой майке множество ядовито-жёлтых точек. В коридоре, который был освещён дневной влажной свежестью, просачивающейся сквозь окно кухни, висел блестящий, в белой деревянной рамочке, портрет Сталина. Витя уставился на него, отстукивая пальцами такт Венского Вальса, который он когда-то играл, и теперь, услышав по радио, вспомнил его по расположению нот на клавиатуре. Опять зазвонил телефон. Гуськов решил не снимать трубку. На часах было 12 утра, он начал собираться в школу, потому что, судя по звонкам, его проверяли, а значит — деваться некуда. Витя сразу представил, как он войдёт в светлый школьный коридор, к нему подбежит Аккерманн и начнёт бить по плечам и говорить со своим надоедливым акцентом, что «вот и пришёл тот день, когда он должен почувствовать себя будущим членом партии, и гордость за свою страну непременно станет обуревать его...», и прочую чушь в подобной формулировке. Опять зазвонил телефон, Витя быстро завязал ботинки, стащил с вешалки пальто и усмехнулся: нужен же ведь кому-то!? На улице оказалось не по-февральски влажно, но асфальт был чистым и блестящим. Гуськов подумал о предстоящих демонстрациях на день Советской армии и с облегчением отметил, что не придётся расчищать снег. В школе было пусто и тихо, когда он зашёл в парадные двери. Звонко уронив швабру на мраморный пол, с кряхтением и оханьем, гардеробщица долго тянулась за ней и Витя подскочил как раз вовремя, чтобы поднять. — Спасибо, сынок, — почти не выходя из прежнего раздражения, сказала она и быстро оглядев его снизу вверх, спросила — а ты чё занятия гуляешь? — Да, — улыбнулся он и снял пальто, чтобы пройти повесить. Прозвенел звонок с четвёртого урока и первый этаж, на котором находились буфет и столовая, моментально наполнился людьми. — Happy birthday, — услышал он за спиной и, повернувшись, наткнулся на Вовочку Гроцкого, отличника из параллельного класса, — как поживаешь, комсомолец? — весело спросил он. Витя, который всегда относился к нему покровительственно снисходительно, помотал головой, чрезвычайно лёгкой от отсутствия волос на ней, в разные стороны и ответил: — Наша жизнь — общественная, а значит — впереди всех! Тот, не скрывая своей весёлости, засмеялся и заиграл плечами: — А как же на личном фронте? — А это наше дело, а не ваше. Быстро подбежали сзади и наперебой начали поздравлять Витю. — Отойдите от него, — заорал Аккерманн и, когда все расступились, с разгона, дико крича и растопырив пальцы, набросился на Витю, поднявшись руками на его плечи и, чуть не уронив на пол. — Ну ты не торопишься сегодня принимать поздравления, — отдышавшись и поправляя галстук сказал он, намекая Гуськову на позднее появление в школе. — Кто-то всё утро мне об этом напоминал, — отозвался тот, недовольный таким внезапным и чересчур утомляющим вниманием. Они молча прошли в класс на втором этаже, Витя — недовольный и раздосадованный собственным поведением, Акерманн — задумчивый и враз погрустневший. — Почему так мало человек в классе сегодня? — удивлённо спросил Гуськов и сел на парту, стоявшую прямо у двери. — Большая часть женской половины во главе со старостой поехали покупать подарки мужчинам на 23 февраля, — мёдоточивым голоском ответил Акерманн, садясь за эту парту сзади Вити. — Вот оно что, — протянул тот. — По тебе сегодня что-то не скажешь, что праздничный день, — обратился к нему Акерманн. — Да, а он для меня и не праздничный, — резко ответил Витя и вышел в коридор, мягко поворачиваясь на скользящих ступнях ботинок по натёртому полу. Он зашёл в большой туалет с холодными, запачканными краской стёклами окон, и вдохнул полным объёмом лёгких хлористый, по-февральски ледяной воздух. Ему было жарко, такая жара берёт только в холодные праздничные дни, когда она приходит от волнения, томительного ожидания чего-то близящегося и внезапно угнетённого настроения. Он вышел с засунутыми в карманы брюк руками и наткнулся на Агнессу, стоявшую прямо тут же у двери. — Ты что делаешь? — спросил он неожиданно, так, как будто перед ним стояла первоклассница и с растерянным видом искала куда пойти. Она откинулась на стенку и крылья её шёлкового черного передника прилипли к ней: — Смотрю в окно, — равнодушно ответила она, показав на окно напротив. Он пожал плечами и приподнял брови: — Странное место выбрала. — Мне нравится запах, — прокомментировал та и отвернувшись, продолжала стоять так, как будто никакого Вити здесь и не было. Он медленно отошёл и, слегка повернувшись в её сторону, принюхался. В коридоре пахло хлоркой, которой начистили унитазы туалета. Запах был стирильно-приторным и слегка густоватым. В квадратике света, лежавшим на полу, отражалась её тень. Витя задумчиво рассмотрел её очертания и представил себе в какой позе стоит Миланская. По его представлениям, она стояла согнувшись, засунув руки за спину и касаясь ладонями стенки. Он прошёл несколько метров, смотря вперёд и, набравшись духу, через плечо обернулся. Её не было, а дверь в мужской туалет закрылась за чьей-то ногой в чёрной кожаной туфле на высоком стройном каблуке. Гуськов остановился, поправляя галстук и, смотря стеклянными глазами в идущего навстречу Акераманна, сказал: — В туалет не заходи, там хлоркой воняет. В этой школе на втором этаже был мужской туалет, а на третьем женский. В первом уборщица всегда драила хлоркой и стиральным мылом, но запах последнего всегда заглушался приторным порошком. Агнесса стояла у раковины, обхватив себя руками. По сравнению с температурой в жарком коридоре, туалет казался проветриваемым со всех сторон. Она глубоко вздохнула и посмотрела на охровые плитки под ногами. Туалет состоял из двух отделений, в первом было три умывальника, во втором — три унитаза и огромное окно. Миланская побрезгала проходить дальше умывальников и, оскорблёно смотря в пол, не моргая отяжелевшими веками, дышала так, будто делает это в последний раз в своей жизни. За окном заиграла сирена скорой помощи. Она посмотрела на миниатюрные часики, ремень которых, как шнурок, обтягивал широкую кость руки. Её застывший на циферблате взгляд заставила оторвать распахнутая уборщицей дверь. Когда последняя увидела Агнессу, стоявшую у стены, с плотно упиравшимися друг в друга щиколотками в черных чулках и перекрещивающимися на них ремнями туфель, то застыла в оцепенении, решительно приняв её отнюдь не за ученицу, а за учительницу. — А вы?... — она не знала, как обратиться и, вытащив швабру из ведра, занесла её над кафельным полом. С тряпки, в которую была завёрнула эта швабра, стекала мыльная вода. — Это мужской туалет, — наконец сказала уборщица, решив, что она поняла в чём дело и, следует помочь. Агнесса безответно смотрела на неё, вкручивая заледенелый змеиный взгляд. Немая сцена продолжалась по меньшей мере минуту, когда наконец Миланская оторвалась от стенки с таким видом, словно её лишают последнего и самого большого удовольствия её жизни и, обойдя женщину, вздернула брови и с материнским сожалением сказала: — Зря вы мылом пол моете, — она улыбнулась, как сестра милосердия, которой предстоит утешать смертельно больного, и добавила, — уж лучше — спиртом. |
||
* * * Рассуждения человека и его взгляды на жизнь в определённый период времени нередко попадают под влияние той литературы, которую он в данный момент читает. Часто ход мыслей и даже манера их излагать совпадают и диктуются автором настольной книги, а иерархия жизненных ценностей сразу сопоставляется с данными её героев. Книга, которая вот уже третий месяц аккуратно, всегда в определённом месте — на правом углу, лежала на столе старосты — был сборник рассказов Эдгара По 30ого года издания, в холщовом потрёпанном переплёте с размашистым именем автора на нём. Первый рассказ «Морелла» начинался с предисловия Платона: «Собой, только собой, в своём вечном единстве.» Эта фраза была выписана у Ани на отдельном листе, положенном за стекло на столе. К чему это было сделано, она только внутренне и подсознательно чувствовала, но объяснить себе не могла. Соврасова бездумно открыла книгу и тонкие, уже вновь изрезанные пальцы, начали листать жёлтые толстые страницы. Её глаза не смотрели дальше трёх страниц первого рассказа и она постоянно нервно перескакивала взглядом с одного слова на другое. «Сказать ли, что я с томительным нетерпением ждал, чтобы Морелла наконец умерла? Да я ждал этого, но хрупкий дух...» Она прервалась мыслями от слов, прочитанных в книги, но формулировка их осталась в её голове прежней: «Сказать ли, что мне хотелось, чтобы она умерла? Да, мне хотелось, но дух... но дух страха мучает меня оттого, что больше нет никакой надежды избавиться...» «Я поцеловал её лоб, а она продолжала: — Я умираю, и всё же я буду жить. — Морелла!» Она водила пальцами по строчкам. Так думать и наталкивать себя на мысли её научила мама. Когда жизнь связана с настольной книгой, а это происходит непременно, то кажется, что невольно все свои переживания, вопросы и ответы на эти вопросы ты подсознательно передаёшь ей. Эта книга становится своего рода оракулом, который всё знает досконально, но хранит в аллегорической форме, и, чтобы понять и прийти своим умом ко всему, тому, что хочешь знать и предвидеть, следует по наитию читать страницы и отдельные фразы, прерывая их и связывая со своей жизнью, потом вновь возвращаясь и вновь прерывая, и так — до полной невозможности понимать. «...Когда, повторяю, всё это стало очевидно моим поражённым ужасом чувствам, когда я уже был не в силах скрывать это от моей души, не в силах далее бороться с жаждой уверовать...» Ветер протряс окна. «Всё-таки даже тогда ещё казалось, что силы были... — Аня нахмурилась и напрягла лоб — неясно откуда брались они, потому что ведь чувствовалось очень осязательно, как они прямо-таки стекали с тела.» Аня на секунду задержала дыхания: она поставила под сомнения желание продолжать эту «игру». «Я укрыл от любопытных глаз мира ту, кого судьба принудила меня боготворить, и в строгом уединении моего дома с мучительной тревогой следил за возлюбленным существом, не жалея забот, не упуская ничего...» — эта цитата была уже почти заучена. «С мучительной тревогой следил за возлюбленным существом...» — эта слежка проходила в памяти, даже скорее не слежка, а преследование с того самого дня, как они с Агнессой познакомились: всё, всё — до конца и в каждой подробности — запах каких-либо используемых ею духов, чай, который она пила по утрам ( теперь то время, когда они вместе жили на даче было боготворено, и вся-вся, унижавшая Аню боль была презренна ), манеру смотреть на предметы взглядом, выражающим только одно желание, а именно — деструктивность, и форму руки, зажимающей вилку. Это всё проходило в памяти и нанизывалось на стерженёк, как будто там внутренний цензор вел отчёт, скорпулезно подсчитывая каждый несвоевременный промах памяти. Так отождествляя себя постоянно с той Аней, которая когда-то ежеминутно, каждое утро и каждый вечер видела, имела возможность следить, наблюдать и каждый миг знать, что делает Агнесса, она теперь только за это одно могла испытывать к себе хоть какое-то уважение. Она знала, что было время, когда Аня Соврасова была больше никем, только всё той же Аней, уже тогда безотчётно влекущейся к этому существу, живущему рядом и жаждущему только лишь того, чтобы как можно больше живых людей этого окружающего мира становилось предметами. Таким предметам стала и Аня. И единственная им осталась. Это похоже было на старую ненужную безделушку, которую не любят, но таскают с собой в виде талисмана. «Собой, только собой, в своём вечном единстве...» — написано было слабым, трусливым подчерком на тёмном листе за стеклом. И Аня почему-то, видя эту фразу каждый день, никак не могла заучить её. Самое верное было теперь, запутавшись, пройтись по всем предисловиям книжки. В предисловия Соврасова очень верила, потому что её казалось, что они всё разъясняют больше, чем знаки препинания текста. Аня перевернула лицом фото, лежавшее под лампочкой. И посмотрев на жалкое изображение Агнессы на снимке, кинула взгляд на страницу книги. Она ударила по ней рукой, как бы утвердив внутренне то, что больше не перевернёт её ни вперёд ни назад, и посмотрела на предисловие текста. Перед ней было какое-то сложносочинённое, бессоюзное предложение на латинском, две части которого разъединялись знаком тире. Соврасова посмотрела сноску и, прочитав, молниеносно захлопнула книгу. Она встала, прошла на кухню, включила газ, отогнала от себя только что прочитанное, скомкала это в памяти, мысленно зажгла спичку и сожгла. Уставши положив лоб на стол, она закрыла глаза. На письменном столе, под светом лампы осталась лежать захлопнутая книга в потрёпанном переплёте с выбивающимися из-под него оторванными страницами. Эта книга состояла из трёхсот сорока страниц, не включая оглавлений, и двадцати семи рассказов, почти каждый из которых начинался предисловием. Можно было открыть любой. Страницы были толстые — листать пальцы не уставали. Их было триста сорок, не включая эрзаца и двух последних — оглавлений. На семнадцатой по счёту, на семнадцатой из триста сорока было предисловие, четвёртое по счёту из двадцати семи имеющихся., единственное написанное по-латыни с подписью Мартина Лютера. «При жизни я был тебе чумой — умирая, я буду твоей смертью...» |
||
* * * Назойливое вмешательство Тони Картошёвой в личные дела Ани и её одноклассника, проявило себя особенно несносным и достигло своего апогея, когда она, набрав Витин номер телефона, почти с разбегу, не поздравляя с праздником, спросила: — Аня звонила? Обезоруженный и обескураженный своей виной перед Соврасовой, он тихо, почти шёпотом ответил: — Нет. И в этом было всё сказано. В это время завеса ничем не пробиваемого невежества, так сильно влияющая на Тоню, внезапно спала и она, почувствовав в душе настоящую, нравственную и совсем товарищескую жалость, нетвёрдо спросила: -А ты что один? Он накрутил телефонный провод на ручку стула и со спазмой в горле ответил: — Я отмечаю. — А-а... — протянула она. И, наслаждаясь свободой, предоставленной ей одиночеством, Тоня быстро вытащила из лежавшей на столе пачки сигарету и закурила. Комната наполнилась приятным запахом неплохих сигарет. Гуськова не волновало ни то, что он не слышит надлежащих поздравлений, ни её равнодушное и тем не менее наглое и настойчивое вмешательство в его отношения с Аней, он обладал удивительной способностью в нужный момент проводить так называемую внутреннюю анестезию, и тогда его всё переставало беспокоить так, будто он просто не чувствует и не знает, что именно должно находить отзывы тревоги в его душе. — Ну ты не огорчайся, может быть она позвонит, — сказала Тоня, на которую вновь с грохотом, и, видимо, весьма оглушительным для неё, свалилась откуда не возьмись завеса святого невежества. Витя поблагодарил её, ни на что так мало не рассчитывая, как на то, что Аня позвонит. — Может быть ты просто её чем-то очень обидел? Гуськов не понимал, почему они продолжают этот куда более, чем глупый, разговор, но анестезия всё ещё действовала и он уныло продолжал: — Это что вопрос? — Нет, просто... — она сделала неумелую затяжку, — ну, утешение, что ли... Вите стало понятно, что Картошёвой не на кого излить свою свободу и в данную минуту её ничто так не волнует, как желание с удовольствием докурить свою сигарету, не просто в безмолвном молчании и пустоте тёмной комнаты, а так мило беседуя с кем-то о чём-то. — Ну ладно, Тоня, спасибо, что поздравила, мне как раз в моей праздничной атмосфере оч-чень не хватало твоего внимания. Она усмехнулась, и, когда потянулась за чайным блюдцем, с тем, чтобы стряхнуть в него пепел, Витя уже попрощался и оставил её наедине с короткими гудками. — Придурковатый..., — недовольно кинула Тоня и запнулась. Почему-то ей показалось, что это слово можно было больше отнести к её поступкам. Витя сильно побледнел. Ничего не казалось ему таким невозможным, как вновь хоть какое-нибудь дружеское расположение Ани. Он засунул руку в карман пиджака, висевшего на вешалке рядом и вытащил клетчатый носовой платок. Это был тот самый платок, сложенный вчетверо с помятым уголком, который обронила на Новогоднем вечере Агнесса. Витя механически поднёс его к лицу, чтобы понюхать, терпкий запах не выветрился ни на грамм. Он вспомнил, что встретился с Агнессой сегодня в коридоре школы и не поддававшийся никакой борьбе страх наполнил его. Ему показалось, что она — сумасшедшая, а поэтому ему нет обратной дороги к Ане, как Ане — от неё. Все последние дни тянулись долго, однообразно и тяжело. Казалось, что они уходили с ударами маятника, а рождались, как мёртвые дети. Для Вити они перестали разделяться по числам, они казались ему одной длинной тянучкой, которую невозможно отодрать от пальцев, потому что они вязнут в ней и срастаются. Когда в комнату заглянула мама, он, не поворачивая головы, сказал: — Я думал ты будешь позднее сегодня. Она поцеловала его, извиняясь за то, что не уделила времени в его день. Когда зазвонил телефон, никто не подошёл к нему, а мама, погладив его по гладкой и приятной для ощущения пальцев голове, спросила: — Что случилось? Он не ответил, а когда она вышла из комнаты, поняв, что Витя весь вечер будет молчать, почти без интонации процитировал: — Мама... ваш сын прекрасно болен, мама... — и еле шевеля губами — у него — пожар сердца. |
||
ГЛАВА 24 Встав на цыпочки и со всей силы оттягивая Тонину куртку, за рукав которой держалась, Танюша Рябушева, искала глазами по парку и, по привычки хмурясь, пыталась разглядеть в шапках, шевелюрах и лицах хоть один знакомый образ. Александровский парк был полон народу, на деревьях висели редкие ленточки яркого серпантина и играла музыка, а потом ритм вальса заглушался криками, хлопушками и автомобильными гудками. — Ну где же вы были? — радостно затараторила подбежавшая сзади подруга Тани, её соседка по лестничной площадке и бывшая одноклассница, с которой Рябушева долгое время сидела за одной партой, когда ещё училась в другом районе города Москвы. Это было невысокая, щуплая и вообще без каких-либо особых примет девочка. Её волосы напоминали комок ваты, крашеной толи в охру, толи в соломенный грязный раствор, она широко и натянуто улыбалась, показывая широкие щели между зубами и часто моргала ярко голубыми глазами, которые на её лице приобрели бесцветный вид и всегда были полузакрыты тяжелыми веками с рыжими выцветшими ресницами. — Мы тут всех ждём, — вмешалась в разговор Тоня, недовольная как видом незнакомой девочки, так и тем, что, кроме неё, они так никого и не могут дождаться. — А все — на Тверском, — обратилась она с глупым дружелюбием к Картошёвой и растянула по всему лицу губы в тонкой, пытающейся скрыть оскал, улыбке. Тоня надменно отвернулась. Рябушева встряхнула волосами: — Пусть идут сюда, — звонко сказала она, — позови их, мы ждём. Девочка быстро убежала на тонких ножках, придерживая одной рукой длинное пальто. Погода была прохладной, сухой и солнечной. Лужи напоминали узорчатые кружева, сплетённые на коклюшках, тонкий слой инея покрывал ещё недавно мокрые скамейки и лавочки парка. — Кто это? — неприветливо спросила Тоня, готовая как-нибудь уличить Таню в непривередливом выборе подруг. — Это моя соседка, мы с ней дружили. — А она знает кого-нибудь из наших? — спросила Тоня, намекая на достаточно большую компанию человек, которую они ждали. — Она знает Аньку, этого достаточно. — А-а-а, — напряжённо протянула Картошёва. — Ну а как её зовут-то хоть? — примирившись с последними Таниными словами, после долгого молчания, спросила она. — Катя, мы её все называли — качерышка. — Почему? — Тоня прониклась искренней жалость к этой девочке, ещё больше от того, что это прозвище действительно очень сильно подходило к ней. — Да, так, — улыбнулась по-доброму Таня, — пошутил кто-то. Картошёва внимательно посмотрела на Танину улыбку и поняла, что действительно ничего такого оскорбительного в этой кличке нет, просто детская шутка, не так уж сильно обязывающая восприниматься с намёком. Когда Тоня увидела на расстоянии приближающуюся к ней компанию, она даже не сразу заметила Соврасову, так удивлённо и ошарашено уставилась она на бледное лицо Голициной с её раскинутыми наискось бровями и орлиным лбом. Последняя крепко держала Анин локоть и, когда все подошли к ним, начала напряжённо здороваться и улыбаться. — Аня, — несмело обратилась Картошёва к весёлой, находившейся в самом праздничном азарте, Соврасовой, — привет. Та повернула голову в её сторону и, жалостливо сдвинув на лбу густые, почти сплошные брови, кивнула головой: — Привет, Тоня. — Маму выписали? — быстро спросила Голицина у Картошёвой, чтобы как-то начать беседу. — Да нет ещё, — протянула та, которая даже не знала точно, в больнице ли её мама сегодня. — Ну а наша поправилась, — торжественно сообщила Настя с таким лицом, будто это событие всех должно не только обрадовать, а привести в восторг. Вместе со старостой подошли Лена Ходунова, соседка Катя, две девочки из параллельного класса и Анина сподвижница Света Ростенко, спортивная девочка со скуластым лицом, которая была старостой девятого класса и усиленно следила за деятельностью профсоюзов, потому что имела мечту стать председателем этой организации и связать свою деятельность с защитой трудовых прав гражданина Советской страны. — Вы все знакомы? — громко спросила Аня, подвижно вертя красивой головой, волосы которой были затянуты в кичку, перевязанную по диаметру красной шёлковой лентой. — Да, вроде, — неуверенно ответила Света, которая отнесла этот вопрос больше всего к себе. Её голос был грубый и напряжённый, как будто ей сложно говорить. Такой диктаторский голос, совсем не женский и не девичий, она им пользовалась в моменты, когда требовалось внушение и за это её не любили. Тоня, которую всё в Свете раздражало и конечно её голос — в первую очередь, вяло оглядела её с ног до головы и примерила на себя её малиновую кофточку, торчащую из-за чёрной шубы. — Куда идём? — спросила Таня. — Просто гулять, только подождём ещё, может кто-то появится? — сказала Соврасова, не понимая ещё на кого именно она надеется. Откуда — то внезапно подошёл высокий детина с белобрысой шевелюрой, как у молодого Маяковского, в матроской тельняжке и широких чёрных брюках от военно-морской формы. Он жеманно подал руку Ане и, подмигнув, спросил: — Не ждали? — Это мой братец, познакомьтесь, — недовольно обратилась ко всем Голицина и как-то стыдливо выпустила Анин локоть. Братец мельком посмотрел на неё из-под густых ресниц и его лицо, скуластое и мраморное, как точёное, стало злым и брезгливым. Ярко карие глаза застыли в одной точке впереди себя и он, ни на кого не смотря, кивнул головой, выпячивая толстую, сильную шею с кадыком: — Очень приятно, — монотонно сказал он. Аня настороженно рассматривала его лицо: — Ну что ты Валик, не злись, сегодня же твой день... Настя перебила её: — Моему братцу об этом лучше не говорить, ото он вспомнит свою затаённую мечту о службе в военно-морской академии, а нам до этого ещё далеко... — она злорадостно усмехнулась, а брат, флегматично поглядывая перед собой, расстегнул до нижней пуговицы чёрный пиджак и ничего не ответил, только лицо его стало ещё более злым и жестоким. «Ну и бандюжья морда », — подумала Картошёва. — Пойдём с нами, — сказала Соврасова, которая одна только и знала как в такие моменты разговаривать с нездорово-опасным братом Насти. Дружной гурьбой они двинулись но аллее парка, разделясь по парам и тройкам. — Слушайте, кто это? — спросила тихо Света идущих рядом Лену Ходунову и Тоню. — Это родной братец Насти, — сказала последняя. — Ну, они похожи... даже очень. — А-ха, — та кивнула, — они — близнецы. — Честно чтоли? Ходунова придвинулась ближе и взяла обеих девочек за руки: — Но они — полная противоположность друг другу, — сказала она Свете. — Ну так это и видно, — не преминула отозваться она, потому что ей очень понравилась Настя не только своей начитанностью, добросовестностью и ответственным отношением, но ещё и тем, что она работала на производстве и горячо поддерживала идеи профсоюзов, сама в них состояла и была активной участницей всех собраний этой немалочисленной организации. — Он вообще чуть в тюрягу не залетел, — сказала Лена. — Честно? — Аха, только мамочка и спасла. Просто мать пожалели, потому что она больная у них, сама, знаешь, 20 лет на заводе проработала начальником цеха, а потом, по причине здоровья её сместили там на какую-то крошечную должность, а сейчас она на инвалидную пенсию живёт и ещё какие-то деньги от профсоюза получает. — Ну, конечно, обязательно, — яростно перебила её Света, которую заинтересовала только последняя фраза, — конечно должны выплачивать, как активному деятелю труда, всё правильно, девочки. Тоня, раздражённо смотревшая всё это время в сторону, искоса взглянула на неё и с упрёком сказала: — Да не об этом речь. — Ну я понимаю... — А вообще, Настьке сложно с ним, — не унималась Лена, довольная тем, что может проявить свои знания в чём-то. — Он — остолоп, — критично вставила Тоня своё веское слово. — А где он учится? — спросила Ростенко, которая теперь напряжённо смотрела на блестящие пятки Валиных солдатских сапог. — Он на заводе точит гайки, разные ключи, отвёртки, — монотонно ответила Тоня, всё это время смотревшая на затылок идущей впереди Соврасовой. Она подумала о том, как хотела бы сейчас идти с ней рядом и, о необходимости поговорить. После молчания, когда разговор был исчерпан, Света наконец заключила: — Злой он какой-то, мне не нравится. — Ты только молчи при нём, не зли его лучше. — А я и не собираюсь, — по-детски испуганно ответила она. Группа идущих впереди, во главе со старостой подошли к билетной кассе и забили проход к окошечку. -Что там? — нетерпеливо спросила Тоня, вставая на цыпочки. — Билеты в МХАТ, — сказала Рябушева, повернув ко всем своё разгорячённое лицо, — сегодня концерт в честь Дня Советской Армии, для военных... — Ну?... — спросили в ожидании сразу несколько человек. Аня закусила верхнюю губу и помотала головой: — Лучше — в Сокольники. — Ребят, а каток ещё открыт? — спросила Катя. — Ну ты даёшь, — засмеялись все. — Конечно его закрыли, — меланхолично объяснила Голицина. Сзади кто-то оглушительно свистнул. Настин брат встряхнул чёлку и, махнув огромной рукой, басом крикнул: — Давай сюда! Подбежали двое громил в байковых куртках со стриженными и плешивыми головами. — Привёл своих дружков, — процедила сквозь зубы не на шутку испуганная Настя. — Откуда такие? — вырвалось у Тони, когда они все отошли в сторону и принялись весьма горячо обсуждать свои проблемы и выяснять долги. — Не самые плохие ребята, — спокойно ответила Аня. Слова, обращённые ко всем, удивили Настю: — Я всегда удивляюсь на тебя, Аня, — с нескрываемым благоговением, но не изменяя строгости в голосе, сказала она, — никак не можешь научиться бояться кого надо. Нельзя так много спускать людям с рук, я, например, за одну лень могу презирать человека,... И я горжусь этим, — ответила она, повысив голос, на Анин изумлённый взгляд расширенных глаз. — Как это — презирать? Тоня, воспользовавшись тем, что Настя в споре встала напротив, тут же подскочила на Анину сторону и серьёзно уставилась на Голицину: — Лень — это совсем не повод презирать. Аня медленно повернула голову к Тоне и, посмотрев на неё с наклоном, спросила: — А что может явиться поводом презирать? — Ну... — Когда всё делаешь ради собственной выгоды. Наступило молчание. Настя прищурилась и посмотрела на фигуру брата в стороне: — Вот этот всё делает только с расчётом на себя. Себя не бережёт и на других плюёт, свою шею под нож подставляет и думает, что может нас с матерью пихать туда же... — Ну всё, всё, Настя, хватит, — понизив голос, попросила Аня и взяла её ладонь в свои руки, — хватит, не нужно сейчас об этом. — Пойдёмте, — позвала Света. Аня оглянулась на Настиного брата. Валя стоял, засунув руки в карманы и, улыбаясь волчьим оскалом, обнажающим красивые крупные зубы, что-то говорил двум стриженым громилам, которые с равнодушными лицами изучали его. — Мы не будем ждать его, — скомандовала Настя, — обойдётся. — Нет, — Аня отпустила её ладонь, — мы его подождём. — Что за тяга к инквизиторам? — взмолилась та. Тоня усмехнулась и переглянулась с Рябушевой, которая передала такой же взгляд Лене Ходуновой и они внутренне поддержали Настины слова. — Ничего подобного, просто я не вижу повода бросать его, раз уж он с нами, — сохраняя равновесие в голосе, ответила Соврасова. — Идиотка, — прошептала Тоня, склонная к вспышкам грубости. Когда разговор Вали с сотоварищами был закончен и они отошли, быстро передвигая длинными ногами в тяжёлых кирзачах, он развернул своё красивое, просветлённое лицо к Соврасовой и, смотря именно ей в глаза, ухмыльнулся: — Не стоило ждать, — пробасил он, — я бы догнал. Лицо Вали Голицина было нездорового светло-жёлтого цвета, ровного, без единого оттенка, впадины и тени, даже под глазами. Прямой нос, как у сестры, опускался, когда он улыбался, губы на этом лице были неестественно ярки, а их пухлость делала его похожим, на кровопийцу. У него не было щетины и он даже не брился, кожа всегда была на скулах гладкой с маленькими бархатными волосками. — Что они хотели, Валя? — настороженно спросила сестра. — А что? — он перевёл на неё упрямый взгляд и уставился в глаза. — Я думаю, может ты опять в долги влез? — Это мои долги, а не твои, — холодно и спокойно ответил он. Рядом хлопнуло сразу несколько хлопушек. Тоня в испуге отскочила, сбив с ног стоявшую тут же Рябушеву и повалив её на землю. — Оба, как снаряд разорвало, — напрягая глотку заорал Валя и не глядя подхватил одной ладонью стремительно скользившую по земле Таню. Когда вышли на Тверской бульвар, Картошёву потянула к себе идущая сзади Лена и крепко сжала её руку: — Что правда то, что ты Тане про Аньку Соврасову сказала? — Что сказала? — испуганно спросила Тоня, у которой вдруг сердце бухнулось в пятки и она поспешно обернулась за спину, боясь нет ли там старосты. Лена не ответила, а вопрошающе посмотрела на Тонино лицо. Они остановились посередине дороги, пропуская мимо себя людей и не обращая внимание на проезжающие рядом редкие машины. — Что сказала? — зло и оскорблёно повторила свой вопрос Тоня всё таким же глухим и трусливо дрожащим голосом. Лена помолчала: — Ну ты же — подруга ей. — Что-о-о? — протянула та, не зная что именно она хочет спросить. — Или мы так думали. — Что думали, Лена? — Или тебе хотелось, чтобы все думали, что ты — лучшая подруга старосты? Картошёва заключила пальцы в замок и откинула спину. — Что же ты говорила, что так обожаешь Аню? — спокойно и даже, как показалось бы со стороны, ласково спросила Лена. — Ты это к чему? — ответила Тоня, которую вдруг оглушило спасительное и некстати упорное хамство. — Что же ты...подставляешь её? — Ты что говоришь? — Тоня отступила на шаг и встала в позу, готовую к нападению. — А то, — закричала Лена, не обращая внимания на проходивших мимо празднично настроенных людей, которые оборачивались на неё, — то... что не верю я тебе, не верю, нечего говорить про Аньку все эти бредни, нечего сплетничать, вот — цена всей твоей товарищеской преданности, а я не верю тебе. Она — не сумасшедшая и не сошла с ума, она просто — настоящая комсомолка, она — настоящий друг, ты же видишь, что она не умеет презирать людей и не разбирается в людях, ну и что, зато она — не предаёт их... — Ты к чему всё это говоришь-то? — перекрикивая музыку, опять заглушившую их, спросила Тоня. — А к тому, что нечего сплетни болтать про Анины отношения с этой...буржуйкой, если она — богатенькая, видная и какая-то там особенная, это совсем не значит, что староста поэтому будет перед ней пресмыкаться и вообще она ни перед кем не пресмыкается, понятно тебе? — А при чём тут то, что она — богатенькая и видная, — с ненавистью ухмыльнулась Тоня, — дуры вы, я не о том говорила Тане. Это у Рябушевой болезнь, ей кажется, что если она дочь матери-одиночки и они живут от одной зарплаты до другой и от подачки до подачки, то все остальные, в особенности те, у которых — по-другому, те смеются над ней и они сразу же — враги пролетариата. Да, так? — Что ты гадость какую-то говоришь? Просто чушь несёшь, просто поносишь человека... — Дуры вы, — повторила Тоня, снизив голос, — дуры, я вам не то говорю. Пропадает наша староста, её задушит эта, как вы её называете, буржуйка... и не какая она не буржуйка... дьявол она, дьявол — а не человек. — Ты что? — вдруг опомнившись и забыв о своей злобе, спросила Лена, — ты что правда? Ты что-то знаешь, Тоня? — А что тебе говорить, ты ведь потом скажешь, что не веришь ни в чём. Ты ведь потом меня предательницей назовёшь. — Ну перестань, Тоня. Почему ты сказала, что Аня пропадёт, почему ты сказала эти страшные слова? — Потому что я видела её последний раз. То что вы видите сейчас, это — не то, это перед вами не Аня, это староста нашего класса, а не Аня Соврасова, вы все обманываетесь, все! — она заорала, — И Витя, бедный Витя, он ничего не знает и ничего не может! Тоня сорвалась с места и побежала обратно в парк. Лена смотрела ей в след, по радио многоголосьем хор пел: «А если в поход страна позовёт...», ей посигналила маршрутка. — Что случилось, Лена? — услышала она голос старосты, которая шла к ней быстрой походкой, убирая за уши растрепавшиеся волосы, — вы где были, где Тоня? — Анька, — преданно сказала Лена, — я не верю ей, не верю. — Почему? — Нужно ей верить? Скажи мне, Анечка, нужно или нет? Соврасова взяла Лену за плечо, чтобы увести: — Пойдём, — сказала она, — пойдём, нас ждут. — Ну скажи же, Анют, нужно верить Тоне в том, что она говорит? — Она не всегда говорит то, что думает, — отозвался в толпе Анин голос. |
||
* * * Рядом садовник громко работал секатором, выравнивая густые непослушные ветви кустарников под одну линию. Соврасова оторвала глаза от толстого лезвия ножниц и он упал на чью-то белоснежную тонкую кисть руки, из под чёрного манжета пальто торчали пальцы с малахитовым кольцом на среднем. — Да, Лена, я ищу их глазами, — ответила она Ходуновой, беспрестанно бегая глазами между оградных вертикалей с плетёными ветками кустарников на них, хотя уже давно хорошо знала кто перед ней стоит и на чью руку упал её взгляд. — Смотри, Агнесса, — сказала Ходунова и в этот момент подошли все — Рябушева, Настя Голицина, и Валя, сзади медленно плелась Катя — качерышка, осматривая Аню издалека своим недоразвитым взглядом. — Да, — растерянно ответила Соврасова и, не отдавая себе отчёта в действиях, рванула всем телом к Миланской и схватила её за рукав. Та, смотревшая всё это время на Аню с недоумевающей улыбкой на похудевшем лице, удивлённо высвободилась из её цепкой схватки и склонила голову на бок. — Здравствуй, Агнесса, почему ты одна? — голос Ани звучал вполне спокойно, только ей показалось, что вся улица вдруг как-то затихла и все смотрят на них. — Я наблюдаю за тем, как стригут кусты, — ответила Миланская с присущим ей эгоцентричным юмором, которым она всегда была чрезмерно довольна. Подошедшая поближе Настя усмехнулась, а Рябушева сразу же, проявив инициативу, оттащила её в сторону и, еле удержав за воротник безобидно подползающую к ним Качерышку, быстро, заплетающимся языком проговорила: — Не надо, пойдёмте, она догонит. Настя недоумевающе покосилась на Рябушеву и с недоверием обернулась на Аню, которая осталась стоять одинёшенька напротив высокой, стройной и недвижимой фигуры Агнессы в чёрном полупальто. — Кто это? — спросила Катя, пуская слюну с тонкой бесцветной губы и обсасывая взглядом Агнессины сапожки. — Это та самая подруга её? — грубым, таким рабочим и совсем не тихим голосом спросила Настя. — Ага, — кивнула Таня. Они двинулись в сторону Красной площади и Лена крикнула Ане, чтобы она догоняла. Валя Голицин наклонился к сестре, облизывая большие яркие губы — она энергично подтащила его к себе за ворот и посмотрела в сторону Ани: — Слушай, Валька, не забудь маме молоко купить в лавке, а? Он не понял: — Ты сегодня утром мне это уже говорила. — Ну... — она растеряно продолжала разглядывать стоящую далеко за спиной брата Агнессу Миланскую, — ну я напоминаю. — Не нужно напоминать, — сказал он с силой освобождая её руки от своих плеч, — я помню и без напоминаний. Она кивнула и взгляд её стал по-прежнему строгим и тупым: — Ну ладно. — Всё-таки подождём её, — сказала Лена и остановилась. — Что она из себя представляет, эта Агнесса? — спросила Настя. — Ты слышала о ней? — удивилась Таня. Голицина кивнула, задумчиво смотря на брата. — От кого? — в один голос спросили Рябушева с Леной. — От Ани, — ответила Настя так, как само собой разумеющееся. — Богатая видно, — почти шёпотом заметила Катя. Настя кинула на неё недовольный и, одновременно, преисполненный тревоги, взгляд и сказала: — Нет богатых в стране пролетариев, есть — нечестные. — Правильно, — торжественно утвердила Таня и даже притопнула. — А какова эта? — не унималась Настя, которой начинало досаждать, что Аня Соврасова так неустанно беседует с этой буржуазного вида особой, так неприлично выделяющейся из толпы своей ослепительной привлекательностью, совсем нездешней и поэтому — враждебной. — Ну, во-первых, она — не москвичка, — начала на вздохе Таня, которая уже приготовилась развернуть целую лекцию биографии Агнессы. — А-а-а, — протянула Настя с таким видом, будто от этого зависело её решение дальнейших действий. Подошла Света Ростенко с словами о том, как становится холодно и, что у всех уже краснеют носы. Она звонко засмеялась и некстати начала тормошить Таню, чтобы та взглянула на Катю у которой её маленький курносый нос покраснел ну совсем, как свеклой натёртый. — Света, — строго сказал Таня, — не нужно шутить. — Что дальше? — спросила Настя, всё ещё имея в виду стоявшую неподалёку экстравагантную особу в чёрном расклешённом полупальто. — Ну, — прозаично вставила Лена, — девочка с юмором. — С юмором? — переспросила Настя. — Да, весьма странным и чёрным. — Она ленинградка? — спросила Голицина, натягивая на уши вязанный синий берет, потому что стало сильно дуть с севера. — Она — ленинградка, только год вообще в Америке жила, — ответила Таня, которая узнала об этом из всех самая первая от самой же Миланской. — Ну, а зачем она сюда приехала? — почти с угрозой спросила Настя. — Наверное, из-за расовых дискриминаций, — зло отпарировала Таня. — Что, пушечное мясо буржуйских прихотей? — прищурившись спросила Настя. Никто её не понял, но все уставились ей в рот. — Ты о каких это прихотях? — спросила Света Ростенко, которая понимала о чём идёт речь, но не знала что добавить. — Джинсы, рок-н-ролл, марихуана — всё это их мода, — пытаясь сказать всё это строго, ответила Настя, но получилось у неё как-то по-рабочему, неучёно, даже по-деревенски. — Ну, эта — не такая, — ответила Таня и оглянулась на Агнессу. Миланская раскачивалась на высоких каблуках и, сжимала замёрзшие пальцы, медленно двигая губами, и несколько неровно закрывая рот, она что-то говорила Ане. — Да я и вижу, — ответила Настя и нахмурилась. -Ну чего мы ждём? — крикнул Валя, который всё это время стоял в стороне и курил одну сигарету за другой. В этот момент подошла быстрым шагом Соврасова, подводя за собой пассивно идущую рядом Миланскую, которая чётко ставя каблук, выкидывала каждый шаг с такой лёгкостью, будто с неё сняли обувь. — Познакомься, Настя, это — Агнесса, — сказала Аня светло улыбаясь и смотря при этом прямо Насте в глаза. — Ну, мне приятно, — невольно оробев, отозвалась та и, взглянув на Агнессино лицо, которое в близи ей показалось восковым и неестественно красивым, она добавила, — я про тебя слышала... мне Аня рассказывала. Агнесса кивнула: — Она всем про меня рассказывает. — Да? — Голицина почувствовала, как её отвращение к Агнессиной буржуйской внешности ушло куда-то глубоко, а на смену ему пришёл неодолимый трепет. — Да, — утвердила та, подчёркивая своим ответом всю глупость только что заданного вопроса, и её взгляд из внимательного и анатомирующего превратился в сплошь плоский и стеклянный. «Ну и глаза,» — подумала Катя, всё это время не стесняясь таращиться на чудную особу в лице Агнессы Миланской. — Слушай, староста, пойдём, а? — саркастично встрял Валя и, пренебрежительно осмотрев снизу вверх Агнессу, застыл на её лице. А та, в свою очередь, не двигая головы, перевела холодные, черносливовые глаза на его шевелюру и, не меняя точки опоры своего взгляда непонятно чему улыбнулась. — Ну ладно, предлагаю, на Красную площадь, — сказала Аня. Миланская отступила на шаг и посмотрела в ноги. — Пойдём с нами? — внимательно разглядывая её лицо, потому что не видела его никогда так близко, предложила Агнессе Таня. Та нежно улыбнулась и блеснула глазами: -Спасибо, нет. — Нет? — уточнила Аня. Настя Голицина развернулась, чтобы отойти, но беспомощность в Анином голосе задержала её: -Анюта, пойдём мы наконец? — как на срыве, вдруг забыв все свои чувства к незнакомке, только что загипнотизировавшей её своим взглядом, спросила она. — Ребята, и правда, что это я вас задерживаю, — сказала Аня и, мельком пройдясь взглядом по светящемуся, как мраморное, лицу Агнессы, потянула к себе Валю, — идёмте! — и развернувшись всем телом к Миланской, уже отойдя от неё на шаг, она громко сказала, — до свидания, Агнесса, счастливо. Агнесса широко улыбнулась и кивнула головой: — До свидания, Аня, — сказала она и в этом было что-то пугающее, как будто обращённое в пустое, тёмное окошко, вырезанное на крышке гроба в том месте, где должно быть лицо. |
||
ГЛАВА 25 Утрируя на лице мимику физического напряжения, Акерманн с размаху бил венозными руками в боксёрских перчатках по длинной кожаной груше и в перерывах, всем телом подаваясь вниз, свешивал усталые руки, встряхивал их и, набирая в грудь воздух, насвистывал блатную «Шаланды, полные кефали...» Этим он занимался уже по меньшей мере с получаса и был оправдано рад, когда вдруг дверь в полутёмный спортзал отварилась и чья-то фигура показалась на пороге. Приближение фигуры растянулось в его зрении на несколько планов: плавно оторванная от косяка рука, знакомый профиль в свете тускло освещённой женской раздевалки на фоне низкой баскетбольной сетки, мягкое приближение шагов, упавший неожиданно со скамейки футбольный мяч. — Школа не надоела? — услышал он рядом с ухом мягкий, не претендующий на обоюдную ласку, голос Ани Соврасовой. Он глупо ухмыльнулся и неловко поправил плечами майку на запотевшем, и не слабо отдававшим своим физиологическим теплообменом, теле: — А ты что здесь делаешь? — Как раз собираюсь заняться тем же... Он напряжённо замолчал и с явным физическим напором посмотрел на её лицо. Когда глаза остановились на её собственных, Акерманн смутился и, еле избавившись от их филигранного взгляда, спросил: — Это чем же? Он понимал, что разговор, как бы пусто он не звучал, не содержит ни грамма комизма — а Соврасова всерьёз изучает его лицо с выцветшими бровями, которое уместно облагораживалось стекавшими струями пота и полутёмным освещением. — Сними перчатки, — искушающим голосом, витиевато попросила она. Рома послушно снял их. Соврасова медленно, не отрывая измельчающего, кристаллического взгляда, вытащила их из его рук и одела: — Как там бить по груше? — спросила она. Гася страх и чувство полного непонимания происходящего и нежелания адаптироваться в нём, Рома ответил: — Вот так, занеси сбоку... — медленно он отвёл её руку, не брезгая прикасаться к ней. Аня послушно, даже податливо, последовала рукой за его движением. — А теперь — со всех сил бей, — продолжил он и последнее слово получилось на крике, разносящимся по пустом залу эхом ; он крикнул, чтобы заглушить её яростный удар. — Получилось, — сказал он тихо после того, как все звуки ушли. — Нет, не получилось, — сказала она и взглянула на него исподлобья: был в этом взгляде какой-то трудноуловимый сарказм, удушающая женская насмешка. Рома ритмично затопал ногой: — Я тебе говорю, что получилось. — Ты разве знаешь, что я хотела? — Нет... а что? — Научиться бить метко, а не просто так, — она прищурилась и опять со всей силы ударила в середину. Подушка долго дёргалась в конвульсиях, Рома остановил её рукой, обдав Аню своим несвежим жаром из подмышек. — Аня, — сказал он из-за её плеча, — извини уж меня, пожалуйста. Она повернула к нему своё лицо с харизматической улыбкой, открывающей зубы: — Да уж конечно... К нему вернулась прежняя бдительность и он расправил плечи: — Я серьёзно прошу у тебя прощения...этого больше не повториться. Знаешь, — вдруг тихо начал он с такой трагедией в голосе, что Анин взгляд перестал отсутствовать, а вернулся в прежнее поучительное разглядывание, — мы все тебя любим. — Этот объединительный пафос ни к чему, — мягко сказала она, — и не стоит расчленять себя на исповеди. Он тупо уставился на неё своими большими бычьими глазами: — Да? — Да, — секунда продлилась на долго, но Аня точно выдержала её. И в то время, когда Акерманн смотрел на неё флегматичным взглядом и уже собирался повернуться профилем, он получил мощный и смачный удар в скулу, так, что сразу в эту же минуту почувствовал во рту вкус крови разодранной внутри щеки. Он приоткрыл рот, слюна потянулась и медленно потекла по подбородку, пузырясь, как розовая жижа. Рома схватился за лицо и сквозь пальцы посмотрел на Соврасову. Она давно уже сняла перчатки и бросила их ему в ноги. Его поразило её бледное лицо, оно отнюдь не выражало злобу или самодовольство. Но тут он понял, что обида и оскорбление, нанесённые им, гораздо дороже стоят, чем этот удар в скулу, и эта тянущаяся слюна, и его головокружение от позора и потери чувства собственного достоинства. Он потянулся к ней рукой: толи хотел обнять её, толи попросить, чтобы не уходила, но Аня развернулась и быстро пошла прочь. Её силуэт скрылся за дверью женской раздевалки, и Рома, обняв рукой грушу, повис на ней. Он всё ещё сплёвывал кровь со слюной, его бычьи глаза смотрели на лежащие у ног перчатки. Соврасова плотно закрыла за собой дверь в туалет и зашла в открытую кабинку. Она прислонилась к стене, холодные плитки с влажным разводом между ними светились в серой темноте голубизной. Аня опустила колготки до колен и больше ничего не сделала, она выпрямилась, опять откинулась плечом к стене и почти плача прошептала: — Недотрожка... чтоб тебе кто-нибудь так в морду дал. |
||
* * * — Самым большим горем для меня было, девочка, убийство Джона Кеннеди в ноябре 63его, — сказала Агнесса и в её глазах включился далёкий свет, проникающий сквозь чёрный ситец неживых зрачков. Эти слова были обращены к Тоне, и они стояли наедине друг с другом в холодном пустом коридоре своей опостылевшей школы. — Ну, у тебя может быть других проблем нет? — осторожно спросила в сторону Картошёва. — Нет, почему же они есть, — усмехнулась Миланская. Они стояли друг против друга, Агнесса — опираясь на батарею, Тоня — подпирая её ногой. Картошёва посмотрела в другой конец коридора, там послышались шаги, Агнесса изучала её своими измельчающими струйками света. — Ну что? — вдруг нетерпеливо, смело и удивлённо спросила Тоня. Миланская внимательно посмотрела на Тонины губы, задавшие этот вопрос. — Это правда, Агнесса, что ты никого не любила? Миланская плавно опустила ресницы и перевела взгляд на полуоткрытую дверь класса литературы.... Там зычно ударяя на каждую свою согласную, нервно загибая уголок книги, по середине класса стояла учительница и внимательно оглядывала всех, слушающих её. — Прометей помог людям узнать ремёсла, дети. Он вдохнул им надежду, похитил для них божественный огонь. Страх ужасной казни не удержал гордого могучего титана помочь людям. И та ужасная казнь, которую приготовил ему греческий бог — Зевс, вы помните эту страшную, мучительную казнь, ребята? — спросила литераторша и глаза её повлажнели и это все увидели, — Ничто, никакие пытки не остановили этого отважнейшего из героев, — она хлопнула по столу книгой, которая, упав на него, закрылась, — это был настоящий герой! Он оставался непреклонным в своей борьбе, и никакой страх не одолел его, знаете почему? Потому что он был справедлив... Кто-то медленно вздохнул, пронизывающая ровные стены тишина была прервана оглушительным дребезжанием звонка с урока. — Домашнее задание — перечитать поэму Александра Блока «Двенадцать», — перекрикивая гам, пронзительно врезалась своим голосом учительница. Аня быстро собрала в портфель тетрадки и, обгоняя всех, вышла из класса. — Как мама? — на ходу пристёгивая отколовшийся профиль Ленина, спросила Аня у Картошёвой, которая, бледная и взволнованная, стояла рядом с Агнессой и смотрела в пол. — Здорова, — ответила она методично и поправила бессмысленным движением лямку чёрного передника. Лицо Ани, обладающее кристаллической отражательной способностью, изменилось и на нём появился отпечаток напряжённого соперничества, когда она увидела надвигающуюся справа фигуру Миланской. — Привет, — сказала Аня натянуто улыбнувшись и Агнесса быстро и спокойно кивнула. — Пойдём вместе? — обратилась Аня к Тоне и к Миланской одновременно, не решив ещё точно на кого смотреть. — Можем, — испуганно проглотив слюну согласилась первая. -Агнесса, я хочу, чтобы ты познакомилась с Настей, помнишь, мы о ней говорили? — с придыханием сказала Аня и взяла Агнессу за манжет. — Познакомить? — переспросила Миланская, непонятно зачем наклоняя голову так, как будто Аня была значительно ниже её и, для того чтобы она услышала к ней приходится наклонятся, при этом Агнесса ещё задрала верхнюю губу, оставив оскал. — Да, — ответила Аня более смело и посмотрела сквозь профиль Картошёвой, смиренно идущей рядом. — Ты что-нибудь имеешь против? — более тихо, как бы себе, задала вопрос Соврасова и он был заглушён проходившими мимо и громко певшими про Орлёнка октябрятами. Аня автоматически обернулась на детей, что-то в словах этой песни было похоже на легенду о Прометее. |
||
За длинным столом В Аниной комнате сидело шесть человек, включая Соврасову — Тоня Картошева, Агнесса, Настя Голицина, Рябушева Таня и — на краю дивана демонически безразличный ко всему происходящему, уголовного вида Валя. Миланская поправила на коленях чёрное платье и вгляделась в плотные чулки. — Ну а что ты читаешь? — спросила Настя, заковано следя за каждым движением молчаливой и строгой блондинки с кричащим пробором на голове. — Сейчас, греческий словарь. — Словарь? — Да. — Как словарь можно читать? — Примерно так же, как кодекс о труде, — невозмутимо кивнула Миланская. Аня встала из-за стола и вышла на кухню. — А ты знаешь греческий? — спросила Настя, зачем-то более громко и её раскинутые по-синичьи брови задёргались от непонятного волнения. — В нашем языке половина слов — оттуда, — скучно ответила Миланская, рассматривая давно знакомый и изученный по всем диагоналям узор на стирильно белой скатерти. — А ты, Настя, дочитала «Воскресенье»? — спросила Таня, желая сменить пугающую тему. — Я уже второй раз перечитываю Островского. — И как тебе? — Я не понимаю, почему женщина не может выстоять перед мужиком своих прав, вот чего мне не понять, девочки, — деловито, по-учительски, оглядывая всех по очереди и даже своего брата, возмутилась Голицина. Агнесса украдкой вскинула на неё ресницы. — Это — причина её смерти, понимаете? Понимаете, почему она — дура, погибает? Ну может не такая она уж и дура, если так всё решила, но нужно же было, можно же было иначе справиться. Она только подтвердила свою слабость тем, что кинулась в эту реку. — Она же от любви. — Да, какой там. При чём тут любовь, если прав у человека — никаких, он и забудет про любовь. Права, понимаешь, это — самое главное. — Согласна, — утвердила Тоня. — Конечно, — не преминула отозваться Рябушева. — А, кстати, об этом, девочки, нам задуматься стоит. Вы имеете какие-нибудь права в своей школе? Тоня удивлённо посмотрела на подругу: — Нас никто ни в чём не ограничивает. — Ну уж, — перебила Настя и кинула мимолётный, зоркий взгляд на Агнессу, которая сидела неподвижно, закрутив одну ногу на другую, и смотрела в окно. — А в чём? — неуверенно спросила Таня. — Вам разрешают открыто ходить — мальчик с девочкой? — Никому до нас дела нет. — Чё ты врёшь? Тоня удивлённо посмотрела на Настю, которая вдруг почему-то разозлилась. — Не вру я. — Вы же жмётесь друг к другу, прячетесь от всех. У нас в коллективе никакие чувства нельзя показывать людям, потому что это неприлично. Тоня кивнула и посмотрела на Таню: — А где староста? — спросила она и стремительно вышла на кухню — ей хотелось, чтобы Аня участвовала в разговоре. — Ну, с другой стороны это и правильно, — меланхолично заключила Настя, — во все времена и у всех народов педагоги ненавидели любовь. Таня громко и плаксиво вздохнула: — Аня, — вдруг позвала она и, обрадованная моментом выйти из комнаты, быстро направилась в кухню. Там стояли Картошёва с Соврасовой мирно о чём-то беседовали и Тоня выдыхала на старосту клубы ароматного дыма своих недешёвых сигарет. Аня держала в руках восьмигранный стакан с водой из под крана и, когда отпивала из него, то содержимое проходило по горлу долго и со скрипом. — Аня, у тебя есть что-нибудь пожевать? Соврасова, молча отмахнувшись от дыма, открыла маленький холодильник и без слов поставила перед Таней пудинг из манной каши на маленьком чайном блюдечке. Рябушева растеряно кивнула и взяла вилку. — Что вы все ушли оттуда? — на одной ноте и поэтому, как-то особенно трагически, спросила Аня. — Да мы нет,... — не нашла что ответить Тоня. — Мы — к тебе, — подхватила Рябушева. В комнате был выключен свет и все силуэты оттого оказались окрашенными как будто в серую, затмевающую очертания сетчатую пастель. — Мне кажется, что мы встречались до этого, — проворно вглядываясь в силуэт Агнессы, сказала Настя. Вспомнив их знакомство у Александрийского садика, Агнесса удивлённо пожала плечами: — Я вижу тебя второй раз в своей жизни. — А я тебя, кажется, что нет. — Наверное, ты видела меня у Ани на фотографиях. — Я не смотрела Анины фотографии...никогда. Тут Валя Голицин, сидевший всё это время в окаменевшей позе, закрывая лицо руками и сгорбив спину, выпрямился и сказал: — В «крестах», наверное. Агнесса удивлённо посмотрела в ту сторону, откуда послышался прокуренный, грубый голос. — Я не сидела в «крестах», — уточнила она. — Замолчи, брат, — строго сказала Настя, — выйди ты лучше. Он не обратил внимания на слова сестры: — А там лучше, чем дома. Чувствую, что вам бы там понравилось. Миланская исполинским размахом встала с дивана: — Нет, Настя, мы нигде раньше не виделись, ты просто очень много думала об этом. — О чём? — О том, что хорошо бы, чтоб мы уже были знакомы, — последнее прозвучало очень глухо, потому что Агнесса вышла в коридор и зашла в ванную. Она нажала на выключатель, который был у зеркала и посмотрела на себя в стекло туалетного шкафчика. В зеркале с грязными ржавыми разводами на неё смотрела уставшая, бледная с чуть прищуренными, как от ветра, чёрными глазами, девочка. — Ну и запуганные же они все, — сказала Миланская сквозь зубы, глядя на свой лоб в зеркало. Она взяла кусочек мыла и, закрыв глаза, понюхала его. Сзади упало полотенце, Агнесса посмотрела в зеркало на пустой крючок и со злостью кинула кусок мыла в раковину: — Аня опять покупает какие-то душистые пенящиеся мыльца. |
||
— Ну как тебе она? — спросила Аня, садясь напротив Голициной, которая сидела в комнате в одиночестве и вдыхала запах оставленный Агнессой — терпкие духи вперемешку с явно тщательно отглаженным и накрахмаленным ситцем. — Ну она — слишком умная, я такой в её 18цать не была. — Ну, это плохо? — усмехнулась Соврасова. — Ну потом, она очень высокомерна, это слишком давит. Если её папа буржуй, это не значит, что можно разговаривать со мной в пол-оборота. Аня тоскливо откинула голову: — Её папа — не буржуй, он — стукач. — Мне безразлично. — А почему тебе безразлично? — Меня не волнует, не задевает её социальное положение — оно мне не нравится. — Значит уже волнует. — Просто мне её жалко. — Почему? — Настанет время и мы вытесним всех этих стукачей, как их там ещё, как они себя сами называют — интеллигентов. — Ой, перестань, — брезгливо поморщилась Соврасова, — слышу уже не в первый раз. Настя обиженно кивнула. — Где Валя? — спросила Аня и положила свою руку на колени Голициной. — Он свалил домой. Они замолчали и обе прислушались, тишина стояла ненарушимая. — Мы одни? — глухо спросила Настя. Аня села на пол рядом с креслом, на котором сидела Голицина: — Нет, Агнесса — на кухне. — Что она там делает? — Смотрит в окно. — Долго это может продолжаться? — Хоть всю жизнь. — Мой брат скоро подохнет, — вдруг яростно отчеканила Настя. — Что? Что ты говоришь? — Я так говорю, потому что подозреваю это. — Что с ним может случиться? — Перережут. — Как ты веришь в жестокость, Настя. — Слушай, просто такие, как он вообще не имеют права на жизнь. — А как ты определяешь, имеют право или нет? Настя,прищурившись, посмотрела на вмонтированную в стену красную розетку и усмехнулась: — Тиранам нет места в нашем обществе. Аня вдруг осторожно спросила: — А что делать с ними? — Избавляться надо от них, Аня. — Как? — Я бы своего кровного брата руками собственными задушила, — она потрясла перед Аниным лицом своими большими ладонями с засаленными, неровными ногтями, — да ведь он же — сильнее, скотина. На кухне включили газ, открыли форточку. Аня вышла из комнаты, сказать Агнессе, чтобы она не забыла зажечь спичкой конфорку. Когда она вернулась Настя спросила: — Зачем ты ей это сказала? — Она включает газ и забывает зажигать плету. — Как??? — Так, запаха, наверное, не чувствует. Соврасова осторожно закрыла за собой дверь в комнату и, тяжело опираясь ладонями на стол, села за него, напротив кресла, в котором, поджав под себя ноги, сидела Голицина. — Слушай, Аня, — деловито своим грудным голосом спросила она, — а Агнесса всегда такая? Аня грустно покачала головой и принялась растирать кончиками пальцев брови: — С каждым месяцем — все страннее. — Когда вы познакомились, она... — Она не была такой. Нет, она не многим изменилась, но была какая-то более живая. Больше общалась с людьми. — Она, как дикарка. — Нет, Настя, она — исключение из правил. В меня она вдохнула просто другой мир, другую жизнь, я думала, что жить без неё не смогу. Чисто физически. — Уж не хочешь ли ты сказать, что у тебя — свой кумир? — воинственно насторожилась Настя, подразумевая тем самым, что кумиры у всех — общие и это — вожди пролетариата. — Я не хочу этого говорить. Мало ли, что я чувствую. — Я не понимаю, как с этой манерной девицей можно общаться. И вообще, что она делает со своим лицом, и какие-то у неё неестественные глаза. Как у слепой, честное слово. Для неё, должно быть, нет авторитетов. Соврасова энергично начала тереть ладони: — Два года назад... у её мамы был брат. Они оба теперь...мёртвые, — Аня удивилась, что подобрала это слово и посмотрела на Настю, ожидая непонятливого взгляда, но та не подняла головы, оставив любоваться своим плоским темечком, — она, кажется очень к нему была привязана. Он на инвалидной коляске сидел, и она часто говорила, что он скоро умрёт, что он уже на половину «там» и, почему-то часто с ним о чём-то говорила. Я наблюдала за ней в такие моменты с веранды. Её лицо не выражало ничего, ни один оттенок. Все эмоции были выражены с неубывающим цинизмом, и смотрела она на него так же, как на остальных, знаешь, так, как ты сказала — как слепая... будто смотрит и не видит, или, наоборот, как впялится, так люди не смотрят...нормальные люди. Ну я не знаю до сих пор, о чём они так долго говорили каждый вечер, мне всегда хотелось быть там, чтобы слышать, что она говорит. Агнесса постоянно как-то странно о нём говорила, мне казалось, что он что-то для неё значит, или она видела какую-то свою миссию в том, чтобы быть с ним. Не знаю... он очень скоро умер.Он умер, когда я ещё была в Ленинграде. Я не знаю, что она сказала об этой смерти, когда узнала. Позднее Агнесса мне говорила о нём что-то странное, опять о том, что «там нет души», о животности, это я слышала от неё.... да, это просто так я сказала — ты об авторитетах заговорила. Так я до сих пор и не знаю, кто он был для неё. Я не знаю, кто я для неё и, вообще, мне кажется, что она живёт своей жизнью, по своему плану, а я его нарушаю... — Аня сделала паузу, — да только я ведь ничего ещё пока не делаю. Я ведь всё только обволакиваю её, тенью за ней хожу, дура какая...какая же неисправимая дура! — Да ладно, Ань, что там, у каждого из нас в жизни бывают пропасти. Знаешь, как гроза, а потом ведь стихает. -А если не стихает? — Ну а что ж, с обрыва же не бросаться из-за этого? — Нет, спасибо, об этом я уже слышала, — устало усмехнулась Соврасова, — всё как-то повторяется, чего ждать только, почему-то, всё равно не знаешь. — Вот и я так тоже. Домой прихожу, мама — в кровати, опять приступ. На полу шмотки разбросаны, этот — на кухне, без штанов и майки валяется...соседи говорят, уберите, мол, милицию вызовем, он ведь тяжёлый, как кабан. Так ты что думаешь, встать может, бутылку спирта вылил в себя, а на ногах держится...и ведь не встаёт, сука, специально валяется, чтобы поскулили... — она покосилась в бок — всё — каждый день — одно и то же, а — не знаешь чего ждать. — Чем пахнет, — Соврасова вскочила, как обожжённая, — ты чувствуешь? Распахнув дверь, Аня выбежала на кухню и выключила двумя руками конфорку. Агнесса сидела за столом, смотря на вертикально поставленный нож. — Ты что делаешь? — тихо спросила Аня. — Утверждаюсь, — был ответ. |
||
ГЛАВА 26 Ритмичный, монотонный, громкий грохот кастрюль слышался из маленькой кухни за узким коридором — звук такой, как будто забивают сваи. Дверь в уборную, которая находилась предусмотрительно здесь же, почти в кухне, была распахнута, там кто-то, пыхтя и смакуя в подробностях все обороты русского мата, чинил бак над унитазом. — Мне, пожалуйста, Таню позовите, — уже в третий раз тщетно делая попытку быть услышанной, просила Картошёва и, неловко переминаясь с ноги на ногу, отходила всё дальше и дальше от прохода на кухню к входной двери, потому что не хотела пропитаться запахом пищи, заполнившем большую коммунальную квартиру. Отовсюду пахло жаренной рыбой, хотя постояв здесь 10 минут с лишним, Тоня начала постепенно чувствовать перебивающий пар рыбы, запах борща с большим количеством жира. На стене висел разобранный велосипед и мимо уже в который раз пробегал полураздетый мальчишка лет пяти, который раскручивал рукой его колесо, и когда оно, дребезжа и тикая, со всей силы вертелось, он морщился от удовольствия, косился на Тоню и убегал. Через минуту он прибегал опять. Скоро это стало ритуалом и, перед тем как раскрутить опять колесо, он сначала останавливался, вставал недалеко от Тони в полунаклоне свесив руки и ждал, не попросит ли она его этого не делать, но Тоня только презрительно отводила взгляд и взволнованно смотрела во все открытые двери, выжидая, что кто-нибудь пойдёт и она опять спросит Таню. Мальчишка тем временем подбегал к колесу и, задирая руку до хруста в суставах, раскручивал его с ещё большей силой. Наконец вышла Таня, заспанная, с растрёпанными волосами, в длинном халате. — Тебя позвали наконец? — грозно начала Картошёва, отмахиваясь от налетевшего с кухни жирного запаха борща и отступая ещё дальше, желая выйти из квартиры. — Тоня, почему так рано, что случилось? — смущённо подвигаясь к ней и, пытаясь улыбнуться, спрашивала Таня Рябушева. Перекрикивая стук молотка в туалете и хлопанье дверей, потому что все вдруг неожиданно засуетились и заходили в разные стороны, Тоня начала старательно двигать губами, пытаясь заставить Таню не столько слушать её, сколько читать: — Ничего не случилось, — и, после паузы она, набрала в себя воздух, — ничего не случилось, Таня, — говорила она так монотонно, будто передаёт телеграмму по телефону, — просто нигде не могу найти Аню. У себя её нет, до неё не дозвониться, не докричаться, У Вити — тоже, у тебя, как видно — тоже нет её. У Насти... нет, потому что Настя — на заводе, у Агнессы тоже нет, я звонила. Таня проснулась и, широко раскрыв глаза, внимательно филигранно рассмотрела Тонино лицо: — А откуда у тебя Агнессин телефон? Не меняя телеграфно-диспечерской интонации, Тоня отчеканила: — Я посмотрела его в Аниной записной книжке, что тут такого. — Нет... нет, ничего. Перестань за Аней следить, зачем тебе она? Тут дверь на кухню захлопнулась и стало намного тише. — Да я не слежу за ней, ты понимаешь, не — сле — жу! — Нет, не понимаю. Что-то не видно. — А кто тогда? Витя отвернулся от неё. Что мне делать, Рябушева? А ты, почему за ней не следишь, ты подруга ей, или нет? — Ой, слушай, молчи. Тоня попятилась назад: — Я только всё о ней знаю. — А это всё не правда, не правда. Картошёва открыла дверь и сразу повеяло холодом, смрадным запахом тёмной парадной и ещё чем-то очень кислым. — Ну ладно, посмотрим. Посмотрим, кто из нас прав окажется. — А ты даже не ищи её, — крикнула ей в след Таня, оставляя короткое дисонансное эхо за своими словами, — она прячется, небось, от тебя. Тоня не слушала её. Она вышла на улицу, вступив ногами в огромный, чёрный сугроб, и оглянулась по сторонам. Засунув руки в карманы, она пошла к остановке: решила ещё раз поехать к Соврасовой. Из окна на неё смотрела Таня. |
||
* * * На кухне всё ещё стоял этот запах газа. Ядовитый воздух наполнил все щели, даже, казалось, сочился сквозь окна. Но это совсем не мешало Ане, мирно положив голову на руку, словно упоённой морфием, спать на кухонном столе. Она глубоко вдыхала воздух и с усилиями выдыхала, иногда вздрагивала или что-то бормотала. Но сон её был крепок так, что Тоне, даже надорви она глотку, ни за что было не докричаться. Разбудил Аню звонок в дверь. Только, когда она подняла растрёпанную голову, поняла, что щёка её горит и, наверняка, глубоко отпечатала на себе складки жёсткой одежды, запах в кухне стоит непереносимый и, к тому же, на стол бросает свои жгучие лучи февральское солнце, поэтому аллюминевая вилка на грязном блюдце с недоеденной запеканкой из манной каши, нагрелась так, что об неё опасно обжечься. Соврасова медленно подошла к двери и открыла её. Ей было безразлично кто за нею стоит, она даже не посмотрела на себя в зеркало, висевшее тут же в углу, шириной с ладонь и длиной в 40 сантиметров. — Витя, — вырвалось у неё. Гуськов поднял с каменного пола лестничной площадки что-то большое, круглое, завёрнутое в несколько тряпок. Она впустила его, попятившись назад и, наткнувшись на зеркало выпирающими своими лопатками, резким оборотом посмотрела в него. — Это тебе, — сказал он ничуть не смущаясь, а, наоборот, как-то, насупившись, очень деловито. — Ну что ж, — она не сумела скрыть своего радостного удивления, — спасибо. И тут же, помолчав секунду, уже более серьёзно добавила, часто моргая ресницами: — А в честь чего это? — Я просто, просто понял, что ты права, Аня. — В чём права? — Во всём — я трус, но я... люблю тебя. Из её груди вырвалось каскадом эмоциональное негодование, похожее на снисходительную усмешку: — Потрясающе, и ты этого не мог сказать раньше? — Чего? Того что я люблю тебя? Она кивнула: — С уточнением, что ты — трус. — Раньше?... Я только недавно это сам понял. Она посмотрела на него исподлобья: — Ммх, но понял...? — Понял. — Ну хоть на этом спасибо, — она вжалась в стену и поставила ступню одной ноги на колено другой. Витя развернул свой свёрток и улыбнулся, тонко, без тени смущения, так, словно они только вчера виделись и он принёс ей всего-то то, о чём она его просила. В руках у него был небольшой, круглый аквариум из голубовато — зелёного, прозрачного стекла на четырёх стеклянных шариках, тоже прозрачных, но более зелёных. Она улыбнулась, посмотрев на эти шарики: — Я в детстве коллекционировала зелёные стеклянные шарики. И тут он неожиданно смутился, почему она не берёт его подарок? Аня долго смотрела на Витино лицо сквозь светлый пузырь, он держал аквариум прямо перед собой и был готов уже прижаться к нему лбом. — Спасибо, я найду что в него складывать. Мне как раз для тетрадок места не хватало, — ответила Аня и взяла из его растопыренных пальцев аквариум. — Ну вот, — сказал он так, будто случилось что-то очень важное. Аня пронесла аквариум в комнату и поставила его на окно. Потом, вернувшись, она сказала: — Да нет, Вить. Вообще, ты знаешь, лучше ты прости меня. Я не права перед тобой. У нас ведь — любовь с тобой, да? Он задумался: — Только не нужно внушать себе это. Если тебе всё равно кто я, не люби. Я же не перестану тебя от этого любить, просто буду рядом. Тебе ведь не безразлично, какие люди рядом с тобой? — Нет, не безразлично, — холодно отозвалась она. Говорить им больше было не о чем. И Витя боялся, что всё, сказанное им, станет теперь лишним в их отношениях, поэтому он поспешил уйти. И вышел на улицу с таким чувством, какое невольно вселяется, когда выходишь из вонючей палаты давно забытого тобой и тяжело больного дальнего родственника, которого необходимо навестить, чтобы он не забыл тебя: даже не для того, чтобы его не обидеть, а так, из чистого эгоизма. Аня проводила его взглядом в окно, шёл он медленно. И подумала, как трудно дотягивать, когда уже нечего говорить друг другу и нет повода нагрубить в лицо. Ей вдруг стало жалко до слёз, что он пришёл, а ещё больше она поняла, что в этом мире не осталось ни одной радости, которая бы её держала. Раздался телефонный звонок и Аня, стоявшая прямо у телефона, быстро сняла трубку. — Слушай, Ань, — услышала она на другом конце провода Агнессин голос, — я тут подумала об одной вещи. — Да, Агнесса. — У тебя есть снотворное? Моё кончилось, точнее куда-то пропало. — Нет, ты ведь знаешь, я не принимаю его. — У меня снотворное куда-то пропало. — Ну чего ты боишься? — Нет. Я не боюсь, что не засну. Просто, если оно пропало куда-то, значит кто-нибудь его взял? — Я н-не знаю, — Аня повернулась лицом в окно, слегка отодвинув трубку ото рта, и её голос прозвучал как-то отчуждённо и настороженно. — Ты что не одна? — на низких нотах спросила Миланская. — Да нет, я одна. — Слушай, у брата твоей Насти что-то не в порядке. — Что? Что именно? Он неплохой парень, — бросилась его защищать Аня, — просто в Ленинграде сидел срок. Ну это ни о чём не говорит, от него все шарахаются, но он, в общем, гораздо положительнее, чем кажется. Он — трудяга, знаешь, какая-то сила в нём тоже есть. Нет, ничего против него ты не имей, он тебе показался таким.А жизнь у него...да, трудная. — А я не об этом, — голос Агнессы прозвучал заговорчески. — А о чём? — У него не там — не в порядке. — Где? — Он — инвалид. — Что? Агнесса глубоко вздохнула: — Умрёт скоро. — Откуда ты это знаешь? — настороженно спросила Аня, потому что полностью поверила в её слова. — У него — на лице... всё отпечатано. — Как? — Позитивом. — Агнесса, почему ты решила? Почему ты решила, что Валя умрёт? С чего ты это взяла? — Знаешь, я ничего за смерть решать не могу — я её чувствую. Анин голос совсем съехал до шёпота, потому что она не могла говорить выше: — Агнесса... — Значит, ты не знаешь, где моё снотворное? — равнодушно, но не безалаберно спросила Миланская. — Нет. Агнесса видимо задумалась: наступила тишина, прерываемая треском линии. — Я не могла потерять его, — сказала она не в трубку. — Я ничем не могу помочь тебе, — неопределённо отозвалась Аня. — Если это вопрос, то мой ответ — нет, ты мне ничем не поможешь. А если — это ответ, то я хочу спросить тебя, ты себе-то помочь хоть чем-нибудь можешь? — Нет, — твёрдо ответила Аня. В её голосе звучала та обида, которая явно перекладывала всю вину этой беспомощности на Агнессу. — Ну, вот, девочка. Пожалуйста, заметь, тебе ничего не нужно делать. Так и продолжай, не вибрируй лишний раз собой. Ты — под контролем, ты — моя. И никогда себе уже ничем не сможешь помочь. — Ты думаешь? — Ты уже всё доказала, как могла. Больше — никаких усилий. Дальше твоего мыканья — не пойдёт. — Хорошо, — выдохнула Аня, — хорошо, хорошо... я не знаю где твоё снотворное, может быть ты выронила его где-нибудь на ступеньках и не заметила. Ты же вечно ходишь, запрокинув голову за плечи, ты ведь, ни то что не наклонишься, даже не повернёшь её. Не знаю где твоё снотворное, я не отвечаю за твои вещи, отстань от меня. Если ты хотела это услышать. — Нет, не это, — на другом конце послышались частые глухие гудки. — Вот стерва,А — ня бросила трубку на рычаг и громко включила телевизор. — Граждане, объём выполненной работы цехов по производству электрических лампочек города Москвы и области, превышает по плану, на 15 процентов. Это геройское трудолюбие советских рабочих должно служить примером для только что поступивших в школы на производство студентов. Больше половины цехов сейчас имеют цеховую школу, которая уже... Аня выключила телевизор глухим щелчком и в комнате стало тихо, только монитор ещё несколько секунд длил тонкий свист с потрескиванием, какой обычно бывает, когда его выключаешь. «Не может быть, чтобы Валя умер», — подумала Аня и перед её глазами встала картина тех похорон, единственных в её жизни, на которых она была четыре или пять лет назад — похороны одной школьной учительницы, на которые они ходили всем классом. Она тогда ещё была незаметной девочкой, щуплой и желтолицей, с никогда не проходящими заедами на губах, которые делали её рот расплывчато большим. Она стояла в последних рядах и ей был виден только открытый гроб, а впереди стояла Тоня Карташёва — их староста и, нарочно закрывая проход спиной, то и дело толкала Аню в грудь локтём, когда тянулась за платком в карман. Это был очень холодный день и Соврасова тогда потеряла свой берет, его просто унесло ветром и никто не побежал его догонять. Почему то ей было обидно до слёз. Но она сказала всем, что это ветер попал ей в глаза и поэтому текут слёзы, а никто всё равно не верил и шёпотом говорили: смотрите, наша маленькая Аня плачет, наверное, она очень любила эту учительницу. Аня забыла этот день и не вспоминала его никогда, он просто не приходил ей в голову. Эффект забывания сработал чётко, ей был слишком неприятен этот момент и жалость, которую она к себе испытывала, чтобы помнить о них. Только теперь она почему-то вспомнила обо всём в подробностях и ничуть не испытала жалости, как будто какая-то стена отгородила её от этого чувства. |
||
ГЛАВА 27 С этого дня Настя Голицина редко заходила к Ане, только однажды Соврасова зашла к ней в цех по комсомольским обязанностям. Школа просила организовать экскурсию выпускников на завод. Они виделись мельком и улыбкой поздоровались — Аня смутилась, а Голицина просто спрятала лицо в маску с плоскими очками и их глаза больше не встретились. В те редкие случаи, когда Настя заходила к Соврасовой с братом, их разговоры не заходили дальше интересующих Голицину тем — профсоюзов, советской прозы последних лет, социалистически настроенных иллюзий. Они с Миланской больше не заговаривали о Вале Голицине, но когда Агнессе приходилось вдруг с ним по случайности встречаться, их интерес друг к другу был взаимоисключающим: интерес Вали был весьма низким, но не по шкале заинтересованности, а по своей духовной качественности, Миланскую же интересовал он больше неестественно, чем вполне искренне — она и не смотрела бы на него вовсе, если бы тот не представал перед нею в свете рампы, который она оттенила смертью. Две недели спустя, уже к середине марта, когда школьные дни стали совсем тихими и никто уже не выяснял свои личные душевные травмы именно в этом здании, Аня вдруг как-то неожиданно прибежала в пионерскую комнату, где сидела Тоня и, застав её одну, взволнованно сказала, что провела странную ночь. Чувствуя неожиданный прилив уверенности, которую, видимо, ей предавало стоящее рядом красно-бордовое комсомольское знамя, Тоня не удивлённо спросила: — Почему? — она чувствовала, что сейчас Аня ей всё расскажет. Именно ей, хотя у неё есть и Рябушева — лучшая подруга почти с детства, и Витя, и Агнесса, но Тоня Карташёва знала, что, несмотря на их перепады от обожания к невозможности терпеть друг друга, рассказывать о себе Ане придётся только ей одной. — Слушай, ты веришь в сны? — В то, что они сбываются? — Да. — Конечно. — Почему ты веришь? — неожиданно спросила Аня, поставив Тоню в замешательство, потому что она явно видела, что этот вопрос не имеет сейчас никакого значения. — Ну, они всегда о чём-нибудь говорят. Всё равно, наверное какая-то доля правды в них есть. Вот мне например снилось, месяца два назад, или раньше, что мама смотрит на меня. Просто смотрит и иногда прижимает руку к правой груди. А потом я вижу, что она смотрит вовсе не на меня, а в зеркало. И ладонь её лежит не на правой груди, а на левой... ну вот. Аня кивнула, потому что поняла. — А через неделю, буквально, её увезли с сердцем, — завершила Тоня и вздохнула. Соврасова, которая сидела к ней профилем на противоположном стуле, всем лицом повернулась к ней и внимательно посмотрела, как бы пытаясь заметить и уличить в инакомыслии. Тоня насторожилась: — Что ты на меня так смотришь? Соврасова молчала. Видно думала, с чего нужно начать, или собиралась с силами. Она так методично и последовательно рассказывала всё Тоне, что, можно было заподозрить, не преследует ли она какой-то очевидной цели. Но Картошёвой это в голову естественно не приходило и она упивалась ( внутренне, не осознавая этого до конца ) своим головокружительным успехом. — Мне очень страшный сон сегодня снился, Тонь, — Аня опустила голову и нахмурилась, смотря в колени. За окнами уже было темно, шесть часов по московскому времени. — Многие ещё из наших в школе? — вдруг неестественно заинтересованно спросила Аня. Тоня, всё это время следившая за ней, медленно кивнула: — Кто-то есть. — Ладно, — сказала Аня, — пойду журнал заполню, много ещё сделать нужно. Она меланхолично поднялась со стула, вся её фигура как-то вдруг потяжелела, не было прежней лёгкости в походке и на секунду она предстала перед Тоней той маленькой Аней, которую она, староста, всегда пыталась по-доброму, по-товарищески жалеть, но не могла не испытывать сугубой негативной жалости к её вечно больному лицу, простуженным губам и заплаканным, или просто засыпанным какой-то красной скорлупкой у век, глазам. Картошёва не могла скрыть недоумения — она приготовилась совсем к иным действиям со стороны Ани. — Ну иди, — сказала она. — Ты ждёшь здесь кого-то? — спросила Соврасова уже у двери. — Уроки делаю. Аня молча захлопнула за собой дверь и вдруг, как по команде, во всей школе отключили электричество. Тоня усмехнулась, а через минуту, после какой-то возни, дверь открылась и Карташёва еле разглядела в тёмно-серой пустоте, стройную прямую фигуру старосты в комсомольском костюме. — Ну вот, — сказала она, — пожалуй, что никуда не денешься. — Теперь-то это надолго, — сказала Картошёва не меняя интонации к концу фразы. Аня села в другом конце комнаты, на предпоследний стул у противоположной стены, по диагонали от Тони. На паркете крестообразно лежала тень оконной рамы. Соврасова медленно скользила взглядом вверх и вниз по продольной линии креста. — Послушай, Тонь, я не всё помню, но это очень странно, — тихо начала она и каждая её шипящая звучала мягко и обволакивала, а глухая «т» отдавалась каким-то нежным, даже сладостным прикосновением языка. Тоня кивнула и ей захотелось придвинуться ближе, чтобы хотя б на миллиметр сократить их расстояние, но она вся одеревенела и не смогла заставить себя двинуться с места. — Ты только не перебивай меня, а просто слушай, я буду рассказывать то, что помню, — попросила Аня. Зная и каждым своим напряжённым нервом чувствуя все вопиющие противоречия, переполняющие ежесекундно Анину душу, Тоня, затаив дыхания и еле-еле позволяя себе сглатывать слюну, следила за ней, боясь, что раздастся чуть слышный шум и Аня раздумает говорить. — Я стою в комнате, — начала она более громко и отчётливо и закрыла глаза, воспроизводя картинку перед собой, — в очень тёмной комнате, я даже не вижу, комната ли это, но я знаю, что это... — закрытое пространство. И чувствую, что чьи-то руки меня держат. Легонько сзади держат за плечи, только едва сжимают их, но я не могу вырваться и не хочу, потому что боюсь упасть в пространство. Я даже не знаю, стою ли я на твёрдом полу, или мне кажется. Вдруг что-то предо мной вспыхивает, но так, не слепит глаза. Или, как будто, лампу включили, или монитор или окно. На какой-то момент — вспышка, а потом долгое угасание и всё вдруг стало очень звучным. Каждое движение, которое я слышу, отдаётся эхом. Я вижу перед собой, что какие-то люди возятся, суетятся, нервничают. Я даже не знаю этих людей и вообще они, хоть я их и не вижу, на людей мало похожи. Дальше — какая-то... — Аня остановилась и почти дрожащим голосом выдавила — кукла. — Кукла? — Да, кукла. Мне тогда так показалось и... и когда я проснулась, тоже была уверена, что кукла. А сейчас, вспоминаю и понимаю — нет. Не кукла. Это был живой человек. Но тогда-то я думала, что — кукла....Они начинают её пинать, эти полу люди, полу животные, пинать, бить руками, или какими-то железками. А эти руки, которые держат меня за плечи, они всё ещё держат и даже ещё крепче сжимают. И тут я чувствую, что ко мне никто не прикасается и я вижу, как бьют это чучело, но все удары я ощущаю на себе, как будто они меня бьют. Я хочу вырваться, извиваюсь всем телом, не произношу ни слова, но со всей силы начинаю выкручиваться, а руки меня всё равно держат, так легонько, но не выпускают. И тут я понимаю, что если высвобожусь из этих рук, то — пропаду. Вокруг — темнота, везде всё разносится эхом, как будто в колодце и я боюсь упасть. А они всё бьют эту куклу и я вижу это и мне так больно, ну так больно, что сил никаких нет, и тело уже обмякло. Мне кажется, что оно уже висит в этих руках, как тряпка. Но я — никуда, потому что очень боюсь. Очень страшно, знаешь, я, наверное даже по-настоящему дрожала. Это продолжается уже не знаю сколько, но очень долго и меня безостановочно бьют, я даже вижу, как безжизненное тело этого чучела извивается и знаю, что так же извивается моё. А потом... потом они начинают стрелять в него, в это чучело. Сначала в голову, в лоб, а потом — картечью. И я вижу, как маленькие дырочки, сквозные появляются в его тряпичном туловище. И чувствую весь этот свинец — в себе. Тоня привстала на локти и закусила губу, она так врезалась глазами в профиль Соврасовой, что они нестерпимо заболели, как будто, на них кто-то давит. — А дальше... всё. Это закончилось. Я чувствую, что не дышу уже, но руки меня держат, поэтому я не падаю, но я знаю, что меня убили. Прямо свинцом заполнили, как будто гвоздики повтыкали. Самое страшное, что я ещё что-то вижу. И я вижу перед собой эту куклу. Людей, бивших...меня, их уже нет рядом. Она лежит ко мне спиной, перевернутая. Рядом валяются какие-то бусинки. И я думаю, что ей оторвали глаза и боюсь, что у меня тоже их нет. Но я вижу, вижу эту куклу. Нет, это всё-таки кукла была. Нет, это была кукла, Тоня. Это был не человек. И я боюсь, смотрю, и боюсь, что мне только кажется, что и у меня этих глаз тоже нет. Я так боюсь, что от этого страха просыпаюсь. Ты знаешь, когда я проснулась, то первым делом прижала ладони к глазам и так долго держала их. Боялась оторвать, просто боялась... боялась, что потеряю. Я не верила, что они у меня остались. Карташёва впервые за тридцать минут своего гробового молчания, громко выдохнула, словно свалила с плеч тяжёлый груз. Аня, сказав это, быстро приложила ладони к закрытым глазам и, чуть дрожа губами, изобразила на лице жалкое, чуть пугающее подобие улыбки. -Это — не жизнь. Это — мрак какой-то... паралич. Тоня вдруг встала из-за парты и медленно, привыкая к отёкшим ногам, подкралась к Ане: — А кто же тебя держал? Аня быстро затрясла головой: — Не знаю. Не знаю. — А там ты знала? — Где? — Во сне... — Ничего я не знала, мне даже иногда чудилось, что это мои собственные руки. Или какая-то часть моего тела, какая-то инородная, выросшая внезапно из плеч. Тоня села рядом на стул и посмотрела на Анин профиль. Она не на шутку испугалась и весь её триумф над откровениями старосты ушёл так глубоко, что на его место пришло настоящее, ни с чем не сравнимое чувство страха перед неизвестным, страха перед тайной, как боишься смотреть в то место, где тебе говорят, лежит убитый человек. Аня опять посмотрела на продольную линию лежащей на полу крестообразной тени. Тоня заворожено не отрывала от её профиля глаз, и брови её сдвигались, а взгляд становился всё более испуганным, и она не могла понять, верит ли она в то, что только что услышала и Аня ли перед нею сидит. Она внимательно всмотрелась в профиль её правого глаза — он не двигался. |
||
ГЛАВА 28 Миланская, не отходя от окна, листала лежащий рядом журнал и беспорядочно смотрела лишь его иллюстрации. На одной странице её взгляд задержала графика с изображением Ленинграда, с синтетически-обобщёнными контурами и строгими линиями, принадлежавшая Остроумовой-Лебедевой. Она медленно прищуривала разбойничьей формы глаза и её флегматичный взгляд не выражал больше, чем простого самосозерцания. Когда он перешёл от стены противоположного дома к белому ситцевому цветочку на тюле, который занавешивал окно, Агнесса медленно захлопнула журнал, содержимое которого интересовало её не больше, чем биография учительницы литературы и медленно, разводя на сгибающихся коленях длинные, стройные пальцы, опустилась на стул с высокой спинкой. Она взяла с края стола бронзовое пресс-папье, привезённое из знойного Голливуда год назад и вынула испод него тонкий лист бумаги, на котором её размашистым подчерком было что-то написано. Агнесса поднесла листочек, сложенный вдвое к глазам: «Оторвите половицы!... вот здесь, здесь! Это стучит его мерзкое сердце » — цитата. Э. По. «Сердце-обличитель». стр. 183. Она нахмурилась. Выписка была сделана для Соврасовой, которая когда-то ( не так давно ) просила её, уводя за собственной манерой выписывать цитаты из книг, написать на отдельном листе любимые цитаты из любимых рассказов этой книжонки в потрёпанном переплёте. Которая была одолжена ей самой же Агнессой и которую Миланская прочитала — вдоль — больше, чем — постранично, а, в сущности, читала она подробно только один короткий рассказ, именно последняя фраза из которого была выписана ею на листочек и положена на хранение под пресс-папье. На следующий день в школе Агнесса протянула этот листочек, сложенный вчетверо, недоумевающей и чем-то внезапно напуганной Соврасовой. Та единственное, что с ним сделала — приложилась носом и почти губами, чтобы вдохнуть запах горьких, мало напоминающих женские, духов, которые пропитывали носовой платок Агнессы — а она имела привычку заворачивать в него письма, записки и номера телефонов, написанных на клочке бумаги. Аня положила записочку на дно своего последнего ящика и в течение четырёх дней благоговейно её не разворачивала. Вечером, в выходной, когда никто не звонил ей и она чувствовала, что никого не ждёт, Соврасова достала тонкий лист бумаги и развернула. «Сердце-обличитель» — психологически построенная история убийства на четырёх желтых страницах с ёрзающей под пальцами и крошащейся бумагой. Рассказ, который она прочитала одним снежным вечером, переходящим в бессонную, терзающую ночь, и захлопнула, не дочитав последней фразы. Захлопнула, обдав себя запахом невидимой пыли, которым обычно пропитаны все старые книги с разъезжающимся корешком и голыми, рвущимися нитками между страниц. Она хорошо запомнила сюжет истории, её сердце сжалось, а потом забилось — человек убил старика, убил не человека, а свою наковальню, избавился от этого глаза, который преследовал его сутками, как вечный надзор. Рассказ, по сути, не содержащий никакой фабулы, если учитывать то, какие рассказы считались поучительными, содержательными и повествовательными. Но он был кульминационным моментом книги, всех рассказов вместе, не связанных между собой никаким образом: это была та гипотенуза, которая врезалась в точку, где сходились две взаимоисключающие друг друга цитаты: «Собой, только собой, в своём вечном единстве» — продольная, и неизбежная оборотная сторона этой же цитаты, встающая поперёк, через все прометейские желания свободы — «При жизни я был тебе чумой — умирая, я буду твоей смертью.» Сердце-обличитель со стратегическим умением обвёрнутое во флёр равнодушия, жалости и патологической любви к предсмертному восторгу предстало перед разумом ( просветлевшим и отрезвлённом) Соврасовой в контуре сущности её ненаглядной Агнессы. Она вдруг увидела, как явно от этого реального, только что перед ней представшего в своём блеске, контура отходит та графическая линия её личного представления об Агнессе, об её душе, сущности, и сердце. Эта мнимая линия, так свято ею удерживаемая, не только отделялась от очертания, но и вовсе растворялась, обнажая голые стенки настоящего тиранского обличия её одноклассницы, той самой, с которой они познакомились три года назад в Ленинграде, и которая всё это время ( и до сих пор, не исключая и момента прозрения ) продолжала ударяться о грудную клетку именно этой «жизнью», которую, как считала Аня, она вдохнула — на самом же деле это были не иначе, как удары обличительного молота на наковальне слабой человеческой души. — Я скажу ей, я скажу ей всё, — почти сквозь слёзы зашептала Аня, нервно протягивая и вновь отрывая руку от телефонной трубки. Она была ошарашена так, будто получила свинцовым молотом по затылку и глаза её не удерживают слёз и от боли и от неожиданности и от растерянности и стыда. Она столько же решительно, сколь и отрешённо набрала её номер на шумном барабане...плачь, сердце, плачь. Долгие, долгие одинокие гудки — никто не ответил. Покоя нет. Взрыв в душе, как будто тот друг внутри ( не знала ещё какой — толи сердце, толи душа, толи разум, толи инстинкт ) превратился в убийцу, и её заносчиво потянуло к ящику, где лежал нож. Смешно страдать, когда тебя обманули, но нужно было выпустить этого «убийцу», а как ещё, кроме вскрытия своей нежной ручки, она не знала. Соврасова откинулась на спинку стула, вытянула под столом ноги и бессильно кривя упругие губы, становясь детской и некрасивой, оглушительно заревела. Сквозь пелену слёз бордовые занавески, недавно повешенные в комнате, явили собой то самое, что у неё,суеверной, откликалось мистическим символом, каким-то знаком...закат — в крови. Знаком дикого зверя, знаком смерти... |
||
* * * ... и смерть состоялась. На следующее утро Миланская ворвалась к ней звонком в дверь. — Я... — Не ждала? — улыбнулась Агнесса. — Вообще-то, я всегда знаю, когда ты придёшь. — Не поняла, — настаивала та, хотя знала, что именно хочет сказать смущённая Аня. — Ну, просто, я чувствую, когда ты придёшь. А тут вдруг не почувствовала. — Аа —, — высоко протянула Миланская, — ну не успела ещё. — Я отдам тебе книгу твою? — спросила неуверенно Аня, решив сначала, что Агнесса за этим больше всего и пришла. — Если не собираешься заучить её наизусть, — она усмехнулась. — Там все люди какие-то, Агнесса, подлые, — Аня отступила на шаг, как будто боялась, что Миланская ударит её за такие слова, хотя знала, что та никогда выше собственного плеча руку не поднимает. — Ну, не нужно путать подлость с..., — ( пауза) — изворотливостью, что ли..? — Нет, нет, я ничего не путаю. — Так кому-то, должно быть, проще жить. — Я не верю, что подлость спасает. — Нет, не спасает. Так... успокаивает. — Успокаивает, — возмущённо повторила Аня, вибрируя интонацию на согласных. На лестничной площадке снизу открылась дверь. Из глубины, видимо узкого, коридора послышался старушечий голос, говоривший в телефонную трубку: — Да, да, Зоя. Нет, не принесла ещё. А я и не ходила в жилконтору. И сил моих больше нет, что я могу сделать... — дребезжал больной старушечий голос, — течёт и течёт... этот унитаз. А я уже и не надеюсь ни на что. Радио в этой же квартире пропело 10 часов утра. — Успокаивает, знаешь, только надежда, — сказала Аня. — Надежда — плохой паллиатив, а угрызение совести — очень трусливое чувство. — Угрызение совести? — Ну, как правило, она чаще всего оказывается именно там, в совести... когда ей нужно себя оправдать. — А зачем, зачем, кому это нужно, кто так сейчас делает, Зоя? — послышался голос старой стервы, которая всё ещё не захлопнула дверь в свою квартиру. — А ты нашла своё снотворное? — спросила Аня, смотря на линии, образующие подобие меандра на Агнессином лице — тень от непонятного переплетения светолиний. — Нет. Что ж, ничего страшного, я купила новое. Оно ещё лучше. — Чем оно лучше? — Тем, что порошок — белее. Хлопнула дверь в парадной, заглушив начало Агнессиной фразы. —... годня наступила весна, — услышала Соврасова, смотря на крепкие большие пальцы своих ног. — Да? — Всё оживает, Аня. Всё оживает, всё рождается снова. — И что? — Всё и все. — В третий раз у меня родиться не получится. Агнесса вытащила из сеточки, плотной шерстяной, на пластмассовых ручках, небольшую голубоватую банку, почти до верху залитую водой. — Посмотри, Аня. Это я тебе принесла, — немного с усмешкой сказала она. Ане почему-то, какт — о особенно, за последние дни хотелось назвать Агнессу — Агни, но она не решалась, даже смущалась и не могла представить себе, чтобы той такое обращение понравилось. Вот и сейчас она подавила это желание в себе, которое чуть не оформилось аудиально, и радостно посмотрела на двух рыбок, плавающих в банке по кругу, друг за дружкой. Они были плоские, чуть зеленоватые с жесткими плавниками в виде поликаламоса и S-образным узором по бокам. — Это очень проницательно, Агн...Агнесса, мне только на днях подарили аквариум. — Какой ужасный подарок. Соврасова от души засмеялась и заметила улыбку на лице Миланской: она полностью была согласна с этими словами и, покраснев линиями на щеках, Аня протянула руку и взяла банку: — Это что-нибудь означает? — Просто жизнь, — ответила Агнесса вдруг очень утомлённым голосом. И, внимательно посмотрев на Аню своим кристальным взглядом, как бы штампующим лицо напротив, добавила — две жизни. — Спасибо, — отрывисто отозвалась Аня, — это очень красиво. Она посмотрела на сильно развитую мышцу верхней губы Агнессы, как раз в этот момент Агнесса сжала губы и они выразили ту упругую, недоступную, ничем не пробиваемую неподкупность, за которую так любила её Аня, так ненавидела и боялась. — Спасибо, — повторила она, — это очень заботливо с твоей стороны. Агнесса пластично улыбнулась, не открывая зубы, при этом кончики губ её сжались, образуя мальчишеские маленькие складочки: — Только не очень себя балуй этой мыслью. — Я постараюсь. — До встречи, Аня. — До встречи Агнесса. Дверь захлопнулась — Соврасова осталась в светлом, нагретом мартовским солнышком коридоре. За окном шёл очень лёгкий, очень медленный, прозрачный снег, в правой руке мышцы были напряжены — их оттягивала банка. Аня вспомнила только что наступившее утро и что-то внутри её, как будто, скатилось: неожиданно какой-то горячий, проницательный страх прошёлся по всем её артериям и сосудам. Дребезжащий голос старухи внизу. Меандровый узор тени на красивом, совсем уже взрослом, а далеко не девичьем лице Агнессы. Это её, чуть не вырвавшееся: Агни. Какой-то запах в парадной, запах чьего-то вкусного, обильного завтрака, приготовленного на большом количестве сливочного масла. И ещё что-то. И ещё чем-то было наполнено это утро. За окно завыла сирена скорой помощи, которая долго не стихала и Аня слышала её даже, когда машина была уже через два переулка от дома. Весна всё-таки наступила... |
||
* * * В этот день Аня поздно пришла из школы. В парадной всё ещё пахло тем утренним завтраком, а плиты лестницы нагрелись от вечернего солнца. Соврасова постоянно повторяла про себя последние свои фразы прощания: они договорились встретиться на завтра и вместе решить, как поздравить с праздником 8 марта классную учительницу. «Ну, счастливо, поговорим всё-таки завтра об этом», — были её последние слова, кинутые Тане Рябушевой и ещё нескольким одноклассницам. Ей всё это уже надоело, и совсем не хотелось идти на митинг и участвовать в награждении самых активных девушек школы, её раздражал красный цвет, а дробь барабана приводила в лёгкий озноб — что-то внутри раздражалось, и кожа отзывалась безусловным рефлексом. Она повернула два раза ключ в замке и с порога, унюхав запах утекающего газа, бросилась на кухню. Она включила быстрым движением кисти кран, потом выключила его — выключила конфорку, вторую, — быстро включила горячую воду — выключила — этот целый ряд полу бессмысленных движений получился очень ритмичным. Кто включил газ? Кто был здесь? Она уселась на стул, который заёрзал. Посмотрела на обувь, потом расстегнула пальто и всё ещё не двигалась. Запах газа был невыносим, он въедался в глаза — нужно было открыть форточку. Она открыла. Сняла телефонную трубку и набрала номер. — Мама, мам, ты последняя уходила? Да?... Ну что ж ты газ... что сделала? Квартиру нагревала? А что отключили отопление? Сейчас..., — она положила трубку на стол, подошла к батарее и коснулась только указательным пальцем, — да, да, всё ещё не топят, может и не будут... ну а что же ты газ оставила? Нет, не огонь, а газ... что? а может сам погас, я не знаю... да, ужасно плохо пахнет, ничего, я проветриваю, пока, целую..., — со звоном упала на рычаг трубка. — Фуф, — Аня вздохнула и зачерпнула пальцами ниспадающую прядь тёмно-каштановых волос. Она осталась стоять у стола, склонив тяжёлую голову и смотря в одну точку. Бездействие отягощало, но завораживало. Она услышала, как брякнула дверная цепочка — вспомнила, что не закрыла входную дверь. Быстрыми шагами пройдя коридор, Аня распахнула вторую, перед входной — в прихожую, стеклянную дверь. На пороге, смотря в щель, стояла фигура. — Кто это? — громко, чтобы не испугаться спросила Аня и, открыв дверь наотмашь, увидела на пороге Голицину. Она замолчала. Та смотрела на неё недобрыми, уставшими глазами, какими-то растёртыми и больными. В руке у неё была маленькая сеточка с чем-то вроде кефира или молока. Она молча шмыгнула носом: — Дверь была открыта. — Я...забыла... — У тебя есть в доме хлеб? изюм?... и... подсолнечное масло — есть? — она всё это проговорила отрывисто, меняя интонацию к концу фразы от меланхоличной до резкой. — Хлеб — есть, масло — тоже... изюма — нет. — У меня уже нет денег ни на что, просто, очень нужно. — Сейчас, Настя, дам. Она повернулась, чтобы пройти в квартиру, Настя остановила её за рукав и на её лице выродилось что-то наподобие злорадствующей улыбки, перебивающейся мимикой смятения: — Он умер,... умер сегодня утром, Аня. — Кто? — глухо спросила Соврасова. — Брат... мой брат скончался. — Как... что с ним? — Нужно деньги на похороны, ну... это — ладно, в этом мы уже сами там как-нибудь с матерью. А продукты нужны очень...сегодня, я ещё зарплату не получила, так что... — она замолчала и посмотрела в пол, не хотелось говорить «выручай», как-то сразу чувствуешь себя никому не нужным, — не получила ещё зарплату... профсоюзы обещали помочь... ну, это ещё когда. — Настя, — Анин голос прозвучал на срыве, — Настя, как же так случилось? Он нарвался? — Свинья! — заорала Настя и заревела, — Свинья, он бросил нас с матерью, как трус. Он ничего не делал, сидел на моей шее, как паразит, таскал из дома деньги, и ничего не делал — я только тратила на него... а теперь — такие колласальные потери, мы же не потянем. На похороны столько денег нужно... я бы и не хоронила его, свинью. — Настя, — Соврасова взяла себя в руки, — как ты можешь говорить так? Ну как? Ты же — умнее... — Я? Я-то что? — Не уберегла его, — тихо сказала Аня. — Не уберегла я, это он нас не уберёг, угробил нас, тварь. Аня повернулась и ушла в темноту прихожей, потом вернулась с бутылкой подсолнечного масла и двумя половинками разносортного чёрного хлеба в пакете. — Ты ещё зайди к Танюше, у неё может быть есть изюм... у меня — нету. Настя молча всё взяла: — А что же? Не готовишься? Нужно всегда с собой иметь, нужно, Аня. К таким событиям нужно быть готовой, и чтобы всё в доме было — изюм, рис, хлеб, и...масло. Нужно, чтобы всё было. Лучше купи себе на всякий случай изюм, — Настин голос звучал без злостно, холодно, наставительно, она, как бы проявляла заботу. — Настя, может тебе помочь чем-нибудь? — Нет, у тебя своих проблем — завалом, не лезь в мои. — Не нужно, Настя. Не нужно так грубо, не отворачивайся. Голицина повернулась к ней лицом на прощанье: — А умерт — о он от язвы. Понятно? От язвы скончался, такой здоровый детина был. Никто и не думал. Ночью встал, попил воды, лёг на спину и не проснулся утром. А мы обрадовались, что так долго спит — ото, как проснётся, он орать начинает. Ты слышала, Соврасова, когда-нибудь такое? — ( она впервые в жизни назвала её по фамилии) — человека могут стукнуть или воткнуть в печень нож — в любую минуту, а он, вот такой независимый, от язвы умирает... а мы и не ждали. Так что, всегда нужно быть готовым к этому, Аня. Всегда нужно всё иметь при себе и ждать... понятно, тебе, многострадалица? — Понятно, Настя. Она захлопнула дверь и вечер ( часы показывали половину седьмого ) показался в точности отражавшим утро. Первый день весны выстроился в симметричную композицию. |
||
ГЛАВА 29 — Эти праздники, граждане, с новой силой служат сплочению трудящихся, воспитания у них чувства гордости за нашу многонациональную Советскую Родину и пролетарской солидарности, ура, товарищи! — Ура! На открытой площадке для выступлений художественных коллективов из разных республик высились транспаранты и плакаты с лозунгами о непрерывном объединении пролитариев всех стран. Аня стояла под деревом, ветки которого были украшены кумачом и шарами и, прищурившись, смотрела на расплывающуюся перед глазами надпись: 8 марта. «Сегодня после митинга в Дарнице, его участники с зажжённым от Вечного огня у могилы неизвестного солдата факелом, последовали в парк партизанской славы. Здесь на памятный камень, символизирующий мужество и героизм советских, польских и словацких партизан возлагались живые цветы. В память всех женщин, павших в бою, и, особенно тех, кто был в партизанских отрядах, пришедшие туда почтили их минутой молчания...» — нарочито траурный голос, принадлежащий женщине, которая всегда представлялась мускулистой и крепко сбитой, перебивал голос рупора. Аня слушала оба, сливающиеся в некоторое сложное многоголосье, и, смотря то в толпу у сцены, то на решётку парка, с трудом выдыхала из себя холодный, но мягкий воздух. Она подумала, что, вероятно, встретит здесь дружную толпу одноклассников и, водя кончиком сапога в луже, смотрела в воду. Жаль, что Витя не застанет её сегодня дома. — Анька, — весёлый голос позвал откуда-то через весь гул и неразбериху, яркок — расные знамёна, каскад шаров и отдалённо звучащую музыку оркестра. Тут же со спины подбежала Тоня. — Нет, ты подумай, почему — одна? — предательски весело и непонятливо закричала в толпу она. — Я вообще... — Что? — Подо... — Аня резко подтянула Картошёву к себе и она услышала в ухо её грубоватый, простуженный голос с мягким московским акцентом, — подойди пожалуйста, — прозвучала недоговорённая фраза. — Ты что одна то? — Я вышла просто пройтись. — Такой хороший день. — Таня... — Таня дома, я была у неё. Она пойдёт на Красную... а ты? Соврасова перевела мутный взгляд с Тониного лица на задний план и, оставив его в поле зрения, чувствовала боковым зрением мягкие, расплывчатые очертания контура Картошёвой. Её улыбка ( блуждающая — больше, чем ответная) сменилась вытягиванием напряжённых губ, что всегда с ними происходило, когда она вглядывалась: неподалёку стоял Паша Терентьев и, топчась на одном месте докуривал загнутую сигарету. Он смущённо улыбнулся и отступил на шаг. Аня посмотрела на гвоздику в Тониных руках: — Тебя не было вчера на классном поздравлении... и, кстати, как мама?! — Да, так... — Что-нибудь... — Соврасова остановилась, потому что не захотела продолжать вопрос. — Не выписывают, поверь, они знают, что лучше. Сердце лучше всего лечить в больнице. — Да? — А я, наверное, буду с Пашей жить. Аня повторила свой многозначительный вопрос, неуместность которого ничуть её не смутила. — Он, знаешь, недалеко от Гоголевского бульвара... так что... — Ладно, — перебила её Аня, не дав Тоне договорить, чтобы не покраснеть за неё — мы зайдём как-нибудь. — Я убегаю, — ухмыльнулась та. Аня кивнула, довольная таким лёгким завершением беседы. Она пошла быстрым шагом вдоль по переулку и пересекла две улицы. Оказавшись на Крапоткинской у Садового кольца, Соврасова перекрестила взглядом стоящие друг против друга четырёх и шестиэтажные дома и остановилась. Дойдя до знакомого района, она теперь не знала, что делать и ей не хотелось идти дальше, разве что только присоединиться к демонстрантам с красными повязками на рукавах. У телефонной будки никого не было, на железной полочке рядом кто-то забыл две копейки. Совросова отлепила их послушными пальцами и набрала номер: — Я недалеко, Агнесса, я хочу с тобой увидеться, выйди — поговорим. — Как поживают мои рыбки? — был её первый вопрос, который прозвучал сначала от её тщательно начищенных полусапожек, потом — голеней в чёрных колготках ; когда Соврасова подняла глаза на лицо, то увидела практический и иступлённый взгляд, соответствующий голосу, которым был задан вопрос. — Они плавают в аквариуме друг за дружкой... по кругу, — руководствуясь только честностью ответила Аня. — Ничего другого не следует от них ожидать. — С праздником тебя, — сказала Соврасова, хотя совсем не хотела этого произносить. Агнесса кивнула. Она взяла Аню под руку и они направились вдоль поребрика по течению толпы демонстрантов, наступая на люки и обходя лопнувшие шарики. — Как ты знала, о том, что Валя Голицин умрёт? — немедля спросила Аня. Её голос звучал так, будто этот вопрос и ответ на него уже заранее были оскорбительными. Миланская повернулась к ней своим скуластым лицом, розово-бледным, и оно просияло. А массивный взгляд стал особенно колким и ярким. — Я же чувствую. Я уже говорила. — Нет, ну просто, это — невероятно. — Что невероятно? — Он умер своей смертью. — Что ж, она настигла его слишком рано. Кто-то включил переносной радиоприёмник и со стороны с треском заиграл Интернационал, несколько людей подхватили слова: Вставай, проклятьем заклеймённый... — Тебя кажется радует смерть? — Или её присутствие... — О, Боже, кажется, я никогда не знала, что ты такая злая, — Аня замедлила шаг, но Агнесса крепко держала её под руку. — Ты бы не могла подобрать здесь другое слово? Аня подняла брови. Её лицо, выразившее весь сложный комплекс переживаний, застыло в мучительной мимике. — Тебе что не понравилось? — спросила она. — Я же тебе не героиня из сказки, — Агнесса, слегка прищурившись, приподняла при каждой гласной верхнюю губу. Аня с неведомым ей удовольствием пронаблюдала как засияла её красота в ореоле недовольства и снисходительности. — Смерть, — продолжила она, — мне бы хотелось, чтобы человек сам назначал себе срок, не зная совершенно точно, что будет в его жизни именно в этот момент, на который он ставит... а когда этот момент наступает — он уже не в силах изменить судьбу и таким образом, наверное единственный раз в жизни, не может повлиять на неё своей слабостью... и в тоже время,А — гнесса перевела вперёд смотрящий взгляд на Анин висок, — и в тоже время, он ведь именно перед смертью должен особенно упиваться своей безысходностью и немощностью... — А почему ты думаешь, что перед смертью человек чувствует именно так? — А потому что, всегда только утверждаешься в своей слабости, продумывая, что могло бы быть... но ничего уже не изменить. — Как тебе этого хочется...зачем? — Должна же быть какая-то система. Ты в течение своей жизни каждую десятую секунду спасаешься от смерти, не зная этого. Ты могла бы сейчас наступить на люк, упасть и удариться затылкам о стенку ямы, но этого не происходит, потому что нет на это никакой установки. А если бы была... — А зачем тебе это? Это тебе зачем, Агнесса? — Нужно всегда знать, когда конец. Нужно всегда видеть его... и, в конце концов, вдруг тебе же удастся спастись, если будешь знать — когда. Я всегда вижу, что люди думают о смерти. И, если она — близко, у них, как правило лицо не выражает никакого страха перед ней, и даже присутствия мысли о конце, потому что она всегда застаёт врасплох. Вот если ему суждено состариться и почти в разлагающимся виде уйти из жизни, тогда его лицо выражает трепет и вечную готовность к концу, которому ещё начала не видно. — Ты понимаешь это слово? Они свернули в безлюдный, ветреный переулок и остановились на мосту. — Слово — смерть? — губы Агнессы невольно не сдержали эмоциональной усмешки, — ты знаешь, что такое — узнавание? — Нет... — Продумай вслух, какой она может быть? Подбери как можно больше определительных к ней... сделай это так, как будто ты знаешь её и кому-то описываешь. — Это что — игра такая? — Нет, это — искусственное внушение. Соврасова задумалась. Под ногами валялся волнистый серпантин, запутавшийся в нитках мулине, которыми были перевязаны шарики. — Смерть... — Первое — что на ум приходит? — Смерть... я не знаю, Агнесса, я не понимаю смысла этой неостроумной игры в слова.... Смерть — счастливая. Пусть это будет так. — Смерть — зловещая, смерть красивая, смерть...убогая, страшная... Аня перебила: — Загадочная. — Быстрая, насильственная... — Лёгкая. Агнесса сделала лёгкий кивок головой. Её руки были засунуты в карманы пальто, она стояла напротив Ани. Она не смотрела на неё, а глазами полоскала дрожащую воду канала. — Мучительная, — быстро ответила она, — неожиданная, ранняя, противная, судорожная. — Спокойная. — Ничего ты о ней не знаешь, — она проскочила последние слова на большой скорости, — угнетающая, желанная, скучная, массовая... — Ты, — Аня перебила её, — ты ничего мне о ней не сказала. — Но ты теперь предупреждена о том, какой её можно ждать. — Спасибо. У меня к тебе вопрос. Он давно меня волнует. — Не волнуйся... — Агнесса передёрнулась от озноба, — я знаю, о чём ты хочешь спросить меня. Соврасова не оставила ей места продолжить: — Ты одинока? — У меня нет прошлого. — Я не об этом спросила. — Об этом, Соврасова. У меня нет прошлого, как я могу знать что такое одиночество, если я не помню его. Я никогда не вспоминаю, что было до этого самого дня. Я только смотрю в будущее, потому что жду того, что оно кончится у меня. Когда я его полностью исчерпаю, переживу, у меня уже ничего не останется. А ты что, — она деланно, но легко усмехнулась, — хочешь заполнить моё одиночество, если бы оно было? — Я не хочу ничего заполнять. — А у тебя и не получится. Тебя не хватит. Слишком уже расплескалась на всех. — Не правда, — Анино лицо вспыхнуло бордовой сыпью, а голос повысился. — Избавься от всех, кто тебе не нужен. Выбирать не придётся. На дубу, у которого они прислонились, висело радио, которое вдруг неожиданно громко заговорило, а потом зазвучал вальс. — Помнишь ты мне пистолет в школу приносила? — Это был кольт. — Это — неважно. Просто, я тогда поступила, как... — Ничего другого я от тебя не ждала, — резко и грубо перебила её Агнесса, — ты ничего не можешь, только резать свои... красивые рабочие руки, — последние слова были выштудированы с особенно привередливым сарказмом,и при этом взгляд Миланской упал на Анины прямоугольные, стройные пальцы и выступающие на кистях вены. Аня ничего не ответила, она вспомнила рыбок в своём аквариуме, которые постоянно плавали друг за другом в одном направлении, не меняя ролей. |
||
ГЛАВА 30 Когда ей вторую уже подряд неделю стало сниться, как она режет ножницами чёрное Агнессино платье с манжетами, Соврасова почувствовала недомогание по отношению к жизни, слабость и непрерывную тошноту. Воспоминания себя две недели назад казались ей непреодолимо мучительными. Это было похоже на то, как сквозь воду кажется, что слышишь телефонный звонок и настораживаешься, а когда телефон действительно вдруг звонит, понимаешь, как ошибочно было это чувство и удивляешься, неужели возможно было перепутать настоящий звонок с его слышимой иллюзией. Всё то, что тогда казалось ей непереживаемым, теперь хотелось вернуть, как смутное подобие спокойной жизни. С некоторых пор перед глазами её зависал этот кольт, который она тогда в первый раз в жизни мельком видела. Но страх всё-таки преодолевал желание свободы: Агнесса становилась всё дальше и ненависть давила ещё глубже. Соврасова уже изнутри чувствовала, что вся сплетена из страхов и предчувствий и никто не заменит ей прежнюю Соврасову — уверенную ли комсомолку, или неразвитого цыплёнка, каким она себя считала до встречи с Миланской — но уже не такую внезапно сломившуюся и зажатую в угол, какой она была теперь. Совесть церберскими глазами наблюдала за ней по всюду, это были глаза похуже Агнессиных, это была довлеющая совесть. И никто не мог заглушить её голоса и занавесить взгляда, потому что они являлись в каждых глазах тех, кто её окружал — в глазах Вити она читала опаску, во взгляде Тони насмешку и боязнь, в Танюшиных глазах было непонимание, в своих собственных — далеко ушедший ужас, подглядывающий внешний мир из-за тёмного угла жалкого подобия воли. Все окна пустого кабинета отбрасывали на парты блики, ритмично освещая их — через одну. На карнизе не было занавесок и потолок казался выше, чем на самом деле, а стены — тоньше. Ничего не могло ей заменить эту школу, именно такую — в канун весны при ярком вечернем солнце, с пустыми, пахнущими мастикой и краской коридорами и кабинетами, у которых двери — нараспашку. Аня знала, что никуда ей не хочется приходить так, как сюда, в эту школу, когда закончена учёба и каждое самое малознакомое здесь лицо кажется родным и вызывает прилив нежности. Соврасова провелась рукой по скользкой, холодной парте, стало хорошо и легко на душе и, когда дверь вдруг распахнулась, на пороге появилась уборщица со сбившимся на груди передником ; она смотрела на Аню своими ласковыми, полузатуманенными глазами. — Здесь чисто, — умоляюще сказала Соврасова, ей не хотелось, чтобы та выгнала её из кабинета, но она уже удалилась в глубину прохладного свободного коридора и не слышала Аниных слов. Она медленно поднялась из-за парты, оглядела класс, прошлась вдоль доски. Всё вдруг опустело и показалось мёртвым. «Наверное уже кажется,» — сказала она себе, оттянув двоеперстием лоб, и вынесла свой шёпот в коридор. Дверь в учительскую была приоткрыта и Соврасова осторожно тронула ручку и потянула на себя. Там за столом у окна, котороё отбрасывало пастозный луч на фарфоровые чайные приборы, как в грустном и мистическом сне, неестественно замедленно в движениях пили чай Витя и учитель физики — недавняя любовь Тани Рябушевой. Они тихо о чём-то смеялись и выразили одинаковое негодование, которое сразу смыло ощущение сновидения, когда увидели в щели Анино нахмурившееся лицо. — Проходите, — смущённо сказал физик, — проходите, товарищ Соврасова, не стойте. В этих словах была какая-то ирония, Аня недовольно усмехнулась и кинула быстрый взгляд на блюдце с порезанными тонкими долечками яблока в красной кожуре. Она закрыла за собой дверь, еле слышно отказавшись от предложения и отошла к последнему в коридоре подоконнику. Через минуту вышел Витя. Он уверенной походкой с развивающимися от подпрыгивания широкими штанинами, направился к ней и, подойдя, застыл на месте. — Похудела, — сказал он. — Как ты догадался, что я хочу с тобой поговорить? — Я не догадался, — ответил он враждебно, — мне самому нужно. — Что тебе от меня нужно? — Хочу попросить, чтобы ты не подходила ко мне больше. Она не смогла сдержать себя, её лицо опустилось, казалось, что ни одна его клеточка не осталась спокойной. Витя дрогнул: это было слишком большим откровением в его жизни, ничего более искреннего он ещё не видел, впервые на его глазах вспыхнуло, родилось и погасло человеческое негодование, негодование, которое было слишком сильным, чтобы его скрыть и слишком искренним, ничуть не подделанным под игру или утрирование. Такого лица у Ани он ещё не видел и за одну его светлую правдивость, он готов был опять почувствовать любовь к ней, но Соврасова заговорила: — Я знала, Витя. Я знала, что ты всё-таки испугаешься меня. Я знала, что ты не поймёшь и я знала, что ты всё узнаешь без меня. — Выбирать авторитеты тебе я не в силах и не имею права, но, Аня...что ты с собой делаешь? Ты же потеряла себя, тебя уже нет, ты понимаешь это? — Я расскажу тебе, Витя, чтобы ты знал, кого ты любил. Он кивнул. Соврасова стояла освещённая лишь с одной стороны, а другая часть её лица контрастно скрывалась тусклым серым фоном коридора. — Да, это — рабство. Да, не морщись, Витя, я не боюсь этого слова. И я скажу тебе больше, я приклоняюсь перед ней, и ты знаешь почему? Потому что она — мой идол, у меня нет морали, она мне мера всего, я не верю ни в кого, я ненавижу её, она унижает меня и гадит мне жизнь, но я иду за ней, потому что не знаю, куда она меня ведёт, но меня очень тянет... ты знаешь Витя, чего я больше всего боюсь? Я смерти, Витенька, боюсь. С самого детства боюсь смерти, а она её презирает.Она её знает, ты понимаешь, знает, поэтому — не боится. А ведь такой, как Агнесса больше нет. Мне даже кажется, что она была там. — Где? — В смерти. — Сумасшедшая. — Кто? — Ты, — его глаза расширились и он отступил на шаг. — Да, — шёпотом ответила Аня, — а я ведь знала цену твоей любви. Пауза показалась нестерпимой, громко щёлкнула лампочка. — Ты знала, я тебя не знал, — ответил он и это было похоже на рецитацию. — Я не люблю тебя. И я не знаю, как мы так долго могли быть вместе. Всё это так гадко было, Витя, что у нас так долго не находилось слов. — Скажи мне, за что, Аня? — Что сказать? — За что ты так и не смогла полюбить меня? — Потому что это был не ты, кто сделал из меня то, что я есть теперь. До меня нужно было только добраться и ты просто опоздал. — Как человек может преклоняться? — Только перед абсолютно неизвестным. Вы все знаете то, перед чем вы преклоняетесь, а я — нет, поэтому всё уже давно кончено, для меня все пути обратно закрыты. Я не знаю, зачем я нужна была Агнессе тогда летом, зачем я нужна ей теперь, но я чувствую, что она довела меня до такого истощения, что обратно идти уже просто сил нет. Это знаешь, когда начинаешь зависеть от чего-то, сначала — заболеваешь, а потом уже просто сил нет выздоравливать. Мы все ведь живём в клетке, дурак, пойми это. Стремимся... — А что ты будешь в жизни делать? — спросил он. Анины глаза, ярко блестевшие секунду назад, погасли. — Уходишь, так — уходи без вопросов, — помолчав ответила она. Он вытащил из кармана брюк какую-то тряпицу и вложил ей в руку: — Я ничего не понял, Аня. Может быть ты действительно сумасшедшая? — этот вопрос прозвучал холодно и даже насмешливо, в голосе его было что-то свинцовое, как дробь. Аня вспомнила, как он водил её в тир и ставил у стойки, а сам стрелял без промаха в мишень и они улыбались друг другу. Вот сейчас эти слова были похожи на эту маленькую дробь для игрушечного ружья, которая как всегда попадает с глухим звуком в самую середину. Она оглядела его серое лицо. Витя был похож на итальянского коммуниста с фотографии на антифашистскую тему, какими изобиловал их учебник истории и, которые он вырезал из книжек, чтобы вставить в обложку дневника. — Это всё? — спросила она слабо, но голос больше выдавал презрение, чем чувство вины или непонимания в ответ. — Давно всё. — Разворачивайся — уходи. Он развернулся на широкой подошве ботинок. Аня отвернулась к окну, чтобы не видеть его спину. Она наклонила голову и посмотрела в ладонь, в которую он вложил что-то. Это был мужской платок в клеточку, вероятно, тот самый, который выронила Агнесса в предновогоднюю ночь. Витя почему-то никак не мог отдать его, а теперь он пришёлся очень кстати, Аня вздрогнула всех грудной клеткой и жалостливый плач вырвался из неё, она приложила платок к лицу. Никто её не слышал, коридор был пустым и в туалете пахло хлоркой. На окне в её комнате стоял аквариум, подаренный Витей, который она собиралась разбить этим вечером. В нём медленно и лепсоматично плавала одна рыбка, ритмично загребая воду хвостиком — всё ещё по кругу ; вторая уже бездыханно лежала на дне аквариума, как аллегория... |
||
ГЛАВА 31 — Мы хотим предложить тебе, все вместе. Давай, Аня, как у нас с тобой — сначала было, а? — тень Карташёвой нависла над согнутой фигурой Ани Соврасовой, которая задумчиво и безразлично смотрела на одинокую рыбку в маленькой банке из под маринада. Её взгляд вдруг оживился, она улыбнулась — вынужденно — больше, чем искренне: — Давай...я уже и сама так не могу. Жить без людей, знаешь, очень трудно, Тонь. Это всё равно, что уйти в монастырь, я бы так не смогла. Мне тоже очень,очень вас всех не хватает, а как только всё будет по-старому, и мне сразу будет лучше, правда? — Да. Аня помедлила: — А Таня, тоже, сама так и сказала, что хочет всё вернуть? Тоня кивнула и пристально посмотрела на Соврасову, пытаясь хоть как-то угадать её жесты. Но Аня ничего не выражала ни движениями, ни взглядом, ни даже голосом. Она вдруг как-то совсем по-невротически взволнованно сказала: — Мы ведь подруги с ней были, да? Мы ведь были с ней подруги, Тонька, и она, я помню, всегда защищала меня перед всеми. — Защищала, защищала... и до сих пор...тоже. — Спасибо ей. Спасибо ей скажи. — Сама, Аня, скажи. Мы ведь решили, что снова — вместе? — Ну конечно. Тоня посмотрела на Анины руки и увидела, как они побелели и неестественно окоченели. — Холодно? — Да... что? — Холодно? — Всегда за последние дни только руки мёрзнут. У меня так в конце зимы часто бывает. Карташёва подняла от Аниной макушки взгляд и прямо посмотрела в светлое окно: — Так, весна давно уже, — как-то очень обречёно сказала она. — Ты ждёшь апреля? — Ну... день рожденье всё-таки будет. — А как твой роман с этим студентом? Ты где живёшь? — Я живу дома, — она усмехнулась, — да мы с ним и не дружили, в общем-то, никогда. — И он так думает? — Да. — Вот счастье-то. Они усмехнулись и Тоня обняла Аню за плечи, ей было понятно совсем очевидно, что как бы мало она Соврасову не любила, никто больше её не любит. |
||
* * * Через неделю наступил апрель, который влился в их жизнь первыми весенними дождями, отделяющими все предыдущие месяцы от весны. Аня в чисто накрахмаленной рубашке с засученными по локоть рукавами стояла у кухонного стола в углу маленькой кухни Тониной квартиры и резала помидоры к салату. — Ой, девочки, — громко вздохнула Лена, — я не верю, что нашей Тонечке исполнится восемнадцать. — Ничего в этом удивительного нет. — Да она — взрослее всех. — По-моему, мне давно уже исполнилось восемнадцать, — Карташёва устало усмехнулась: у неё болела голова от стянутых в тугую кичку волос. — Ой, Тонька, дай бинтик, — быстро выпалила Соврасова и прикусила указательный палец правой руки. — Что? — спросили в один голос. — Да так,н — еосторожность, — она ловко оторвала ленточку бинта и, зажав её между средним и безымянным пальцами, быстро обмотала рану, — люблю острые ножи, — усмехнулась она, — правда — люблю. — Давай отрежу нитки, — Тоня поднесла большие ножницы и щёлкнула ими в воздухе. Аня проследила взглядом щелчок и на секунду застыла, ей стало страшно и непонятно, почему ножницы вызвали в ней столько отвращения. Она убрала их со стола, где Тоня только что оставила, и положила в ящик. — Народу много будет? — спросил кто-то из коридора. Аня не поняла к кому был вопрос, но она слегка пожала плечами и ответила в окно: — Не знаю. — Здравствуйте, дети... кто — у нас — болен? Когда Аня вошла в большую комнату с прохладными, лёгкими занавесками жизнеутверждающе-красного цвета, Таня Рябушева с Наташей, стояли, обнявшись и читали по очереди детскую книжку разных стишков, а над ними нависала тяжёлая парняцкая фигура ( нового Тониного друга Аня не знала), то и дело отпускавшая какие-то острые замечания, потому что девочки передёргивались от смеха, нервно ударяя друг друга локтями и слипаясь нарядным лёгким шёлком рубашек. — Здравствуйте, дети... кто у нас болен? — сквозь смех, Наташа сделала ударение на местоимение и они на перебой ленточным многоголосьем принялись обсуждать постановку интонации в устном исполнении, смех сменился истерикой, легкомысленной и задорной, когда к интонации подключилась жестуальность. Включили музыку. — Очень громко, — закричала Лена, пытаясь дугой в воздухе, сделанной указательным пальцем над ухом, показать, как можно оглохнуть. В комнате все засуетились и забегали, ударяясь об углы длинного стола и наталкиваясь друг на друга. — Витя не придёт, Рома уехал, — дидактически перечисляла Тоня, как бы сама себе, смотря в стенку, её голос звучал неестественно звонко в проходе коридора по сравнению с орущёй в комнате музыкой и треском пластинки. — Кто ещё? — Так, Свету — исключить... Агнесса. Одноклассницы изумлённо переглянулись. Низкорослая Маша непонимающе спросила с испугом на лице. — Что — Агнесса? — Пригласила её, — ответила Тоня машинально. — Ну? — Придёт, сказала, я очень попросила. — А зачем? — Интересная девочка, вы же мало с ней общаетесь. Уже давно приобщать её нужно к нашему обществу. Аня, как в телескоп увидела Тонин силуэт недалеко от себя в рамке узкого коридорного прохода. — Понятно, — тихо сказала она себе и завернула в первую по близости комнату. Она ходила по квартире, как в быстром сне, который бывает в дрёме за секунду до пробуждения, собирая в себя все мельчайшие образы, которые ловил рецептор её глаза и всасывая все звуки, сменяющие один другого с мистической скоростью и неорганичностью. В дверь позвонили. Аня вошла в гостинную. — Я приеду к Пете, я приеду к Коле, — увиселительные игры продолжались. — Анька, иди сюда, — сквозь смех позвала Лена Ходунова. — Ага, сейчас, подожди, — напряжённо усмехнулась она и, опустив голову, вышла в коридор. Там стояла их комсомольская старшина, девочка с чёрными длинными, как у русалки волосами. Она уступчиво поздоровалась с Аней, Аня, ошалев от внезапной лёгкости вместе с ушедшем в пах волнением, ответила ей красивой улыбкой с лёгким кивком головы. — Но, но, без шуток, пожалуйста, — захлёбываясь в смехе, громко кричала в комнате Наташа Ростенко, у которой вырывали из рук книгу Маяковского. Аня увидела в зеркальную стенку стеклянного шкафчика Агнессину голову. Она была наклонена пробором вперёд, слегка завитый на затылке хвостик смотрелся, как золотой на её чёрно-синем цвете платья. Она дружелюбно кивнула Ане и, подойдя поближе, тихо сказала: — Привет. — Привет... — Аня прислонилась к стенке, давая Агнессе дорогу. «А я ждала тебя с другой стороны... привет, Агнесса, как всегда тебе рада.» — Ну всё, садимся за стол, — хлопнула в ладоши Тоня. Пластинку перевернули. Глухой хриплый голос какого-то низкорослого чернокожего заголосил рок-н-рол, срываясь на высоких нотах. Аня медленно расправила плечи за столом. Они оказались рядом с Рябушевой, которая несколько недоверчиво и смущённо улыбнулась и сказала, что Тоня сегодня хорошо выглядит. — Мне тоже нравится, — растерянно ответила староста и перевела взгляд на Агнессу, которая сидела в светлом квадрате окна и разглядывала позолоченную трезубую вилку, торчком стоящую в её кулаке. Никто не поднял тоста за Тоню. Все выпили за юность, и комната наполнилась тем весёлым гулом, приглушающим даже сочное звучание винила, которого так трудно добиться искусственным путём, потому что он создаётся только при наличии такого количества голосов и интонаций. Когда Агнесса вышла из комнаты, Аня немедленно встала, чуть не опрокинув рюмку на скатерть и, не заботясь о слишком открытой видимости своего последовательного отлучения из комнаты, прокралась за тенью Миланской. Тоня украдкой посмотрела на Рябушеву, последняя весело засмеялась над чьей-то нескончаемой шуткой и, только, когда почувствовала пустоту рядом с собой, кинула взгляд в сторону чёрного прямоугольника двери. — Ты зачем пришла сюда? — немедля спросила Соврасова Агнессу, которая смотрела на неё в зеркальное панно коридора. — К тебе. — Зачем ко мне — сюда? — Я забочусь о тебе, — сказала она и лениво усмехнувшись, увлекла Аню за собой в комнату. Это была та маленькая комната, находившаяся в конце коридора. Агнесса закрыла за собой дверь. Аня оказалась у стенки, освещённая вечерней мерцающей влагой, пробивающейся в окно. Комната была хорошо проветрена и Аня съёжилась. Агнесса достала из сумочки свёрток и быстро, чёткими отработанными движениями развернула его. Соврасова проследила упавшую на пол бумагу — газетная обложка с лицом Юрия Гагарина на ней — весёлым улыбающимся в шлеме космонавта с красной лентой от медали. — Только не кричи от страха, — презрительно сказала Агнесса и протянув руку, бросила на пол то, что держала в ней, что-то тяжёлое брякнуло об половицы. Соврасова медленно подняла напряжёнными руками с пола уроненный блестящий кольт и посмотрела исподлобья на спокойную с полосатым рисунком теней на лице Миланскую. Её глаза,уже до смерти Ане надоевшие, не столько пугающе, сколько изводяще смотрели, как два стеклянных шарика, заполненные чёрной краской и Ане захотелось выстрелить именно в них и убить для начала эти глаза, посмотреть, как они будут растекаться по лицу чёрными струями, ещё больше хотелось увидеть её безглазой, хотелось посмотреть так ли пугает Агнесса Миланская без глаз. Она представила на её непривычно розовом лице две дырки на месте глаз и почувствовала слабость в паху, как будто сейчас всё выпитое ей шампанское выйдет наружу. — Убери, — попросила Соврасова, но тот час сама протянула руку и подняла тяжёлое оружие с тонких неровных дощечек паркета. Она навела дуло точно в середину лица Миланской и прищурила один глаз. Агнесса задумчиво смотрела на Анино лицо, и даже не на глаза, а на брови и на лоб. Аня опустила руку. Как импульс, ударивший в кисть, которая держала кольт, Аня почувствовала струю ветра из открытой форточки. Она разжала пальцы, подняла листок газеты и только теперь заметила перевязанный палец, который болел и ныл, потому что рана открылась. — Возьми себе, — гипнотически прошипела Миланская. — Отвяжись, — слабо попросила Аня, — отвяжись от меня. Её колени подкосились и она с трудом приблизилась к стене. — Я хочу чтобы ты была свободной, давай же, — шёпотом говорила Агнесса, очень чётко, неестественно благозвучно выговаривая все звуки и буквы. При этом лицо её не было похоже на лицо той Агнессы, которую видели все — оно выражало так непривычную его мышцам страсть и даже нетерпимость, — найди ему применение. Это же единственное, что отличает человека от скотины — свобода выбора жизни... ты же всю жизнь готовилась к смерти. — Я боюсь. — Чего ты боишься? — Промахнуться. — Ты не этого боишься, не играй словами. — Я бы сейчас выстрелила в тебя. — Чтобы увидеть мёртвое тело? — Чтобы тебя не было больше. После секундного молчания и тишины комнаты, которая не пропускала шума музыки и праздника за стенкой, Агнесса ответила: — Ослепнешь — плакать. Соврасова сжала пред собой свёрток: — Слезинки не выроню. — Мы не в ответе за свои слёзы. — А ты откуда знаешь, у тебя глаза плакать не умеют. Агнесса усмехнулась: — А я всё знаю, даже то, чего у меня не было. Дверь неожиданно открылась и вошла Тоня, из чёрного коридора пахнуло душной радостью. — Что помешала? — с полу-улыбкой спросила она. — Закрой дверь с внутренней стороны, — сказала Агнесса испуганной Карташёвой. Она взяла из слабых Аниных рук свёрток и протянула его Тоне, — нагрей духовку и положи это внутрь... сделай, как я сказала, просто нужно избавиться от одной вещи... — Тоня, не бери, — приказала Соврасова. Последняя остолбенела. Они стояли, образовав треугольник и никто не решался разорвать его. — А... что это? — грубым голосом спросила Тоня, она вертела между пальцев пуговицу рубашки. — Секира, — ответила Агнесса. Соврасова первая сделала движение в сторону двери, прижимая свёрток к груди и желая только, чтобы то, что завёрнуто в нём, никаким образом ни одним своим блестящим углом не показалось наружу. Агнесса опередила её, тихо, почти на ухо сказав: — Я ухожу отсюда. Тоня остановила Аню за рукав, ей не хотелось оставаться одной в холодной пронизанной ветром комнате. Когда они остались одни, она спросила: — Аня, Скажи мне честно. Она что — ненормальная? — Не знаю, Тоня, — голос Соврасовой прозвучал особенно глубоко, как-то ужасающе безнадёжно и окостенело. — Она какие-то странные вещи говорит. — Просто это всё абсолютно не относится к нашей жизни. — А к какой жизни это относится? — Это не относится к жизни вообще. Их позвали дружные голоса. Кто-то крикнул: «Тоня, сколько можно ждать». Перед тем, как выйти, она сказала: — Знаешь, Соврасова, а Таня права, ты ведь уже не будешь такой, как была когда-то. Она не может с тобой находиться, Аня. Ты губишь людей, с тобой не хочется разговаривать, потому что ты нас всех не замечаешь. Когда Тоня ушла, Аня всё ещё прижимала к груди кольт, завёрнутый в газетную обложку. Она съехала по косяку вниз и закрыла глаза, ветер был таким холодным, что можно было окоченеть. |
||
ГЛАВА 32 У дверей просторного подъезда стояла волга — чёрная, как смоль, с бархатной занавесочкой. На приближении, Аня увидела мужскую фигуру, тучную, затянутую плащом — он сел в автомобиль, звонко хлопнула дверца и машина заскользила в глубину улицы. Соврасова подумала о том, что в Ленинграде в мае уже белые ночи. В это время Витя сел в плацкартный вагон дальнего поезда. Рома Акерманн, засучив рукава подошёл, наклонился над ним и похлопал по плечу: — Одесса тебе понравится, влюбишься в неё. Тот кивнул. — И не волнуйся, отец, не поступишь — пойдёшь на производство. Гуськов посмотрел в окно, ему страшно хотелось, чтобы, когда он вернулся, Аня бы уже уехала из этого города. Причина не нужна. Пусть просто уедет с кем-нибудь, в глубине души он боялся, что, когда он приедет сюда снова, она изменится так, что он не сможет забыть её уже никогда, и теперь даже не имело значение как именно она должна для этого измениться. Он прекрасно знал, что какой бы эта перемена не была — подурнеет ли она и очерствеет, или, наоборот, освободится от всех своих болезней, она, наверное, притянет его к себе ещё крепче, и он не хотел этого, он боялся сейчас именно своего срыва. Самое главное было уехать из Москвы — быстрее бы уехать, ото он захочет остаться, не выдержит и выбежит из вагона и понесётся прямо сейчас в десятом часу вечера к ней под окна, любовь ли это он не знал, но тоска уже обуревала его и он помнил, что она — страшнее. Витя зашевелил ногами, а может и правда встать, хотя бы просто посмотреть в окно. Или не надо?... Он встал: ну ни срываться же с места, а Рома? Он понял, что его остановило — Рома Аккерманн. Он так много для него сделал. Как его бросить, как ему объяснить, и зачем... нет, всё это — напрасно. Витя подумал о том, какое место этот отъезд занимает во всём огромном масштабе его жизни. Это место представлялось ему крохотным, ничего не значащим, как чёрная точка на странице книги, не заметная среди букв. Нет, всё это — ерунда, что есть вещи, которые невозможно изменить — нет их, есть вещи, которые глупо менять и не стоит. Гуськов откинулся плечом к стенке: у меня не было выбора — подумал он... И опять проскользнула мысль: но как оставить Рому? И поезд заскользил по рельсам, медленно унося с собой длинный пирон. |
||
... — А ты не боишься дома одна оставаться? — спросила Аня, пытаясь разглядеть сквозь мутный жёлтый свет в парадной, доходивший с верхнего этажа, Агнессино лицо, натянутое убранными в кичку волосами. — Нет, я ничего не боюсь. Когда Аня очутилась в холле квартиры, она быстро достала из сумки свёрток из нескольких газет. — Это что? — Это твоя секира, Агнесса, мне не нужно в доме таких предметов. Миланская взяла плащ, который сняла Аня и положила его на полку рядом с пустой вешалкой. — Ты что с убранными волосами спишь? — не поворачиваясь в её сторону спросила Аня, только что заметившая, что Агнесса стоит перед ней в ночной рубашке. — Нет, — услышала она за спиной. Соврасова прошла в комнату. — Ты что решила остаться здесь? — не приближаясь спросила Миланская. Она осталась стоять в проходе коридора и смотрела на Аню из темноты. — Я решила сказать тебе кое-что, — ответила Аня в эту темноту. Миланская приблизилась к косяку двери. Аня села на кресло рядом с письменным столом Агнессы и посмотрела на отодвинутый ящик. Там лежал словарь греческих неологизмов, трагедии Эсхила и, в потрёпанной мягкой, почти тряпичной обложке, старая библия с вырванным из неё «Ветхим Заветом», а потому — начинающаяся с нового. Аня взяла её в руки: — Помню, — усмехнулась она. — Быстрее, Соврасова, — Агнесса тяжело перевела взгляд на Библию в её руках, и её глаза покрылись лёгкой плёнкой, которой Аня никогда прежде у неё не видела. -Что? — удивилась она. Её чёрные колготки прилипали к бархатному креслу и поэтому она то и дело поднимала то одну ногу, то другую, при этом снизу смотря на Миланскую. — Я выпила снотворное, сейчас оно начнёт действовать, и я не смогу сдержать его, до того, как ты покинешь мою квартиру. — Я помню, — продолжила со вздохом Аня, — как ты мне эту книжку иногда читала. Я так и не поняла что это, ты говорила, завет какой-то? Агнесса не ответила. Её глаза сморгнули мутную пелену и взгляд преобразился в ясный и изучающий. Она безмолвно смотрела на Аню. — Завет, да? Я не ошиблась, или — запрет? — Соврасова продолжала исподлобья смотреть на Агнессу. — Завет. — А, — завет. Да... Рядом с Агнессиным правым плечом стоял шкаф. Она откинулась на него и сжала руками локти. — Ты знаешь, почему от меня все отвернулись? — громко спросила Аня и тяжело бросила под ноги книжку в потрёпанном переплёте. Она забарабанила ритмично по подушке кресла и звук получался глухой и набитый. — А это уже произошло? — усмехнулась Агнесса. — Это уже произошло, — усмехнулась Аня, подчёркивая частицу, указывающую на свершившееся. — Ну так радуйся. — Чему мне радоваться? — Аня сменила ритм ударов и на ум тот час же пришло, или — намоталось, как нитка на катушку, — «плач, сердце, плач»... — Конец страданий — лучшая из радостей *. — А почему это, конец? — язвительно и холодно спросила Аня ( покоя нет! Степная кобылица...несётся — вскачь ) — нужно было что-то сделать, чтобы избавиться от этой навязчивой, к тому же, неподходящей по теме, рифмы, и она перестала отбивать ритм. В комнате сразу же наступила тишина и в холле послышался звук двигающейся стрелки. — Ну, избавления от людей — всегда конец страданию. — Это они от меня избавились — не я от них. — Ну не все ли равно, когда их уже нет? — Нет! — закричала Соврасова. Миланская наклонила голову к груди. На минуту Ане показалось, что она засыпает, но она тот час выпрямилась и послышался её низкий голос. — Ну, Таня Рябушева, — это девочка, которую трудно сделать мёртвой. Из неё жизнь бьёт ключом, мне понравилась она сразу, как только нас познакомили, очень жизнеутверждающая энергия у неё, я не видела ещё таких. — Ты и про меня так же говорила, — она прищурилась и её голос стал тихим, а выговор — мягким. — Да, но в тебе эта потенция была скрыта, нужно было её выпустить, — Миланская покачала головой, — просто я не знала, что она выйдет у тебя до конца. — На тебя вся вышла. — Я столько не требую... — Ты просто вслух не просишь? Агнесса прищурилась и медленно оглядела Аню с ног до головы: — Я, вообще, люблю тебя, Соврасова. — А? — Ты, — она сдержала улыбку, — самый удачливый из всех моих талисманов. А главное, от тебя чисто пахнет, ото, знаешь, люди ведь все такие мерзкие, от них так несёт, как будто они уже умерли давно. — Не оправдывайся неприязнью к людям. — Не этим оправдываюсь. — А чем? — Не перед тобой — поэтому даже не изворачивайся, чтобы узнать. — Перед собой ли, Агнесса? — усмехнулась Аня. Агнесса тоже усмехнулась, смотря на Соврасову, ей понравился этот смелый смешок, он заразил её и она рассмеялась: — Не буду же я перед талисманом своим оправдываться, как язычница. — Перед каким талисманом? — вспылила Соврасова, — ты что это говоришь такое, ты заколдовала меня что ли, или заговорила? — Заворожила, может быть? — Миланская не перестала смеяться, но глаза её всё более устало смотрели перед собой. — Я ненавижу тебя. — Не умеешь. Аня взяла со стола стакан, из которого была выпита вода и пустила его в сторону Агнессы, но — на расстоянии от неё. Стекляшка ударилась об шкаф и разлетелась вдребезги. — Что это? — утрируя губами вопрос, спросила Агнесса, подтирая с брови кровь. Аня встала и отошла к столу. Вокруг Миланской валялись мелкие осколки от стакана, они блестели на лакированной поверхности пола, некоторые из них попали на ковёр и въелись в него. Соврсова посмотрела на белую бровь Агнессы, над которой появилась кровоточащая царапина. — Что это? — опять спросила Агнесса, — чем я заслужила, видеть здесь свою кровь? — Ты оскорбила меня, — вопросительно ответила Аня. — Оскорбила? Ударила по твоему больному самолюбию? Возьми свои слова обратно, и даже не услаждай меня такими речами*. Мне бить некуда — ни самолюбия, ни гордости, ничего у тебя нет. В тебе вообще ничего нет, кроме меня разве что. Я же, распотрошив тебя, ничего не оставила, или ты не поняла этого ещё? Не много же ты собой пользовалась, раз так мало лишений заметила... и всего то тебе доставало?! Агнесса подтёрла пальцем кровь и села на кровать: — Я ночью воду пью, принеси мне ещё один стакан, с — казала она. Аня медленно обошла осколки. На кухне, в открытом нараспашку шкафчике стояли, вверх дном стаканы — большие и маленькие, матовые и прозрачные. Рядом был графин с водой и чайные ложки. — Ты свой порошок запеваешь? — спросила Аня, вернувшись в комнату. — Я его в воде растворяю, — ответила Агнесса и улыбнулась одними губами. Её чёрные глаза стали муаровыми и не блестели больше. — Агнесса, уже метро закрыли. Я могу в другой комнате остаться на ночь? Миланская уронила голову в руки. — Не засыпай, Агнесса, я ещё не сказала тебе... я же пришла сказать тебе кое-что. Агнесса мутно посмотрела на Аню: — Потом уже только. Мне двух пакетов снотворного всё равно не хватает на всю ночь, я всегда просыпаюсь. Если ты дождёшься, то я выслушаю тебя...чтобы остаток ночи проспать со спокойным, просветлённым разумом, а вдруг ты мне что-нибудь новое откроешь? — Ну послушай меня сейчас, — Аня подошла к столу — Иди пожалуйста, — сказала уже менее эмоционально Миланская, — и включи свет, я не могу без света спать. Аня ушла на кухню и налила в стакан воду. Когда она вошла в комнату, Агнесса уже спала, откинув голову на подушке и выгнув свою белую шею. На полу у кресла всё так же лежала брошенная книга в старом переплёте. — Ты ведь не спишь, — сказала Аня. Но Агнесса спала и она это знала. Она ушла в другую комнату, в которой никогда раньше не была — это был кабинет отца Миланскай. Соврасова встала к окну, ей хотелось вернуться в комнату и выключить свет, но она боялась, что разбудит Агнессу, хотя, тогда, она может быть обняла бы её или попросила прощения. Аня подошла к окну, загребла руками раздувающиеся занавески и её грудь затряслась от невидимых слёз, от того, что её пересохшее горло сдавили немые рыдания. |
||
* * * Она вышла из светлой и холодной парадной в пятом часу утра, ни сомкнув ночью глаз, посмотрев сверху на спящую Агнессу, тихо закрыв за собой две тяжёлые двери квартиры. Утро было холодным и туманным, как после дождя загородом. Соврасова быстро шла по тихим, знакомым улицам, по направлению к станции метро, не смотря вперёд, а устремив глаза под ноги. Асфальт был очень светлым, липкие блестящие листья на деревьях ласково шелестели, перехватывая ветер, Аня чувствовала такой прилив сил, какой часто бывает после долгого, спокойного сна. Но ей казалось, что улица всегда будет такой, и день не закончит начинаться. Ни один её сустав не охватывала усталость и это удивляло и настораживало. В другом конце улицы послышался звук автомобиля. Аня вспомнила, как, подходя к дому Миланской, она проводила взглядом уезжающую чёрную волгу и ей показалось, что это так давно было, что теперь даже трудно вспомнить всё в подробностях. Она пересекла мост. На другой стороне дороги стояла машина скорой помощи. Соврасова замедлила шаг и её дыхание стало менее частым, она только что поняла, что всё это время ускоряла шаг, и от аптеки до моста — бежала. Аня пошла медленее и остановилась у белой маршрутки с красным крестом на заднем стекле. Она посмотрела на себя в зеркало. Её лицо не было усталым, волосы, убранные в косичку, растрепались, а яркие зелёные глаза её ритмично сочетались по цвету с чёрным воротником плаща. Соврасова поправила волосы, убрала их за уши — какие горячие были у неё ладони. Внезапно сзади послышался звон и грохот колёс — заходили трамваи, Аня вскочила в пустой вагон, потому что этот трамвай шёл как раз до метро. |
||
ГЛАВА 33 В полутёмном коридоре, делящимся анфиладными залами, она шла по нескончаемому паркету в однотонную клетку. Нигде не было света и неоткуда было вдыхать воздух, но все стены — заставлены какимит — о предметами, похожими на шкафы, у которых не возможно найти двери. Все эти шкафы не отличались высотой, а некоторые были более новые, чем другие. Не было конца этой галереи и не кончались шкафы, не издающие ни звука, и даже никак не пахнущие. Казалось, что они не сделаны из атомов, как все предметы, а нарисованы на одной перспективе. Аня проснулась от звонка с урока. Этот сон снился ей часто, но в последние месяцы она уже не вспоминала его: он снился чаще, когда она засыпала днём, а этого ей уже давно не приходилось делать. Соврасова проводила взглядом последних, удаляющихся, как в замедленном кадре, одноклассников. Никто не удивился тому, что она проспала весь урок на последней парте. И ей было легче от того, что никто ни о чём не спрашивает. Аня посмотрела на коричневый рукав платья и засунула в него ладонь, задевая о манжеты новым, крепким эластиком, которым были тщательно и стыдливо заклеены парезы поперёк ладони. Ноги отекли, она медленно встала, взяла сумку со стула и вышла в шумный коридор. У гардероба одевались младшие классы, которые хором поздоровались и некоторые девочки наперебой бросились к ней. — Что маленькие? — устало и нежно спросила Аня, протягивая им руки. Она вглядывалась в толпу школьников, спускавшихся с парадной лестницы. — Мы сделали стенгазету, ты видела, Аня? — они весело подпрыгивали, пытаясь зацепиться за её плечи. — Нет, нет ещё, — взволнованно сказала она и устремилась всем лицом, и нервно отозвалась всем телом в сторону лестницы, где среди прочих других голов, волос и одежд, увидела белокурою голову Агнессы с затянутыми чёрной лентой волосами и её муаровое платье с тёмными манжетами. Голова это медленно опускалась ритмично идущим вниз ступенькам, и Аня резко отодвинула от себя чью-то загородившую спину, чтобы взглянуть в бледное Агнессино лицо, но в следующий момент, потеряла его из виду и ринулась в двери раздевалки, куда, должно быть свернула Миланская. Двери раздевалки для старшиклассников были распахнуты и толпа поредела, а одежды осталось на вешалках не так уж много. Аня увидела двух одноклассников, девочек из краснознамённого десятого и одиноко протирающую зеркало гардеробщицу: никакой Агнессы там не было. У дверей, на крыльце стояли девочки. — До свидания, Тоня, — кинула Соврасова в их сторону, но никто не отозвался. |
||
* * * Вечером раздался звонок в Анину дверь. Она смотрела в окно на крупные капли только что прошедшего дождя, перебирая на затылке растрепавшуюся кичку. Она водила пальцами по столу, под которыми были тоненькие, вынутые из волос, невидимки, и они издавали жалостный, ноющий звук. Позвонили настойчивее и Аня живо вскочила со стула. Перед ней выросло лицо Тони Карташёвой, оно смотрело на неё, как с портрета, нарисованного на чёрном грунте. Не освещённое искусственным светом и еле показывающее черты в темноте, оно, как будто было просунуто в дыру тряпичной чёрной занавески, потому что, кроме него ( ниже) тоже ничего не было видно. — Ты одна? — тихо спросила Аня. Она кивнула головой. — Пройди в прихожую. Тоня отрицательно покачала. — Что? Почему нет? Картошёва сквозь темноту вглядывалась в Анино спокойное лицо с тусклым, меланхоличным взглядом под длинными ресницами. — Не надо... — она сказала это сдавленным голосом с пересохшим горлом, отпечатывая в воздухе каждую согласную. Наступило молчание, потому что они одновременно вглядывались, почти друг друга не видя. — Ты что ничего не знаешь? — Ничего не знаю? — она, как на зло оттягивала ответ. — Ты... одна дома? — Да. — Ты знаешь, что случилось, Аня? — Нет. — Ничего не знаешь? — Что же я должна знать. — Агнесса мертва. Соврасова не двигалась, а Тоня шмыгнула носом и зашептала, дрожа дыханием. — Аня, Анечка, Аня, ты должна только сейчас успокоиться, и не нервничай. Ничего с собой не делай, но я тебя не обманываю... только, прошу, ничего не нужно говорить. Аня, её нашли сегодня утром через четыре часа после окоченения. Она — мёртвая. — Нет, — чётко ответила Соврасова. — Что нет? — Откуда ты это взяла? — она перебирала пальцами невидимки. — Это сказала мне наша классная, она позвонила мне. Ей позвонил отец... отец Агнессы Миланской... — Они ошиблись. — Как ошиблись? — Она не могла умереть, — хриплым голосом заорала Аня, её голос оглушил Тоню и разнёсся по всему подъезду, — она не могла умереть, — повторила она и, оттолкнув Тоню, захлопнула перед её лицом дверь — грубо и оглушительно. Парадная всё ещё стояла наполненная диким воплем Соврасовой. Тоня, чувствуя свой внезапно ошпаривший её, пот, испуганная, как газель, ринулась вниз и, еле не подскользнувшись у выхода, выбежала из подъезда. Она не останавливалась у остановки и шла пешком. У входа в кафе со стоячими столиками, она остановилась и отдышалась, руки покраснели и тряслись, колени ныли и всё ещё бесконтрольно билось сердце от не проходящего страха. Тоня посмотрела на себя в витрину. Её фигура показалась слишком растянутой, и, вспомнив от этого страшного своего вида, не менее страшный, и даже — ужасающий голос Соврасовой, Тоня с ужасом прошептала: «Она подумала, что я её обманула.» |
||
* * * — Её нельзя оставлять одну. — Она не сможет теперь пережить этого, не представляю, что она будет делать одна в этом мире. — Прекратите, об этом нельзя так говорить. Тоня зажгла спичку и осветила ей лицо Тани Рябушевой. — Какие мы жестокие, случается трагедия, а мы... — А мы боимся, что она повлечёт за собой следующую. — Нет вещей, которые невозможно пережить. — Таня, ты не права. — Тебе ли говорить это? — Я посмотрела на Аню и поняла, что есть такие вещи. — Что с ней было, Тонь, расскажи?... — Что с ней было? Она не поверила мне. Заорала так, что я чуть не оглохла, но не поверила. Она вообще в этот момент, мне показалось, будто ослепла. Если бы я сказала ей от чего умерла Агнесса, она ударила бы меня. — Что случилось с Агнессой? — Её нашли мёртвой утром. Сказали, что сердце... — Боже, какой ужас. — Что у неё было слабое сердце? — Оказывается — да. — Кто мог об этом подумать... — Я не представляла её в старости. — Нет, девочки, всё-таки что-то в ней такое было. Что-то роковое. — Она очень как-то не подходила нам всем. — Ну, есть такие. — А, знаете, она похожа на какую-нибудь кинематографическую звезду из Голливуда. — Ну...я когда её увидела, подумала, что к нам американка приехала. — Американки что, все — такие красивые? — Девчонки, а вам её жалко? Наступила пауза, которое прервало громкое хлюпанье Тани Рябушевой. Она шёпотом сказала, еле открывая наполненный слюнями рот: — Девчонки, как же мы Ане скажем, что это — правда? — Не будем ничего говорить. Она сама узнает. -Нет, всё-таки надо. — Не ходи к ней больше, Тоня, ото она убьёт тебя ещё... — Ты что... думаешь? — Соврасову что ли не помнишь? — Нет. |
||
ГЛАВА 34 На похоронах стоял весь класс. Аня стояла во втором ряду от гроба. Она слышала, как за её спиной кто-то сказал про отца Агнессы: столько горя, он жену похоронил два года назад, теперь — дочь вот так безвременно. Такая молодая, красивая. Все были безмолвны. Мальчики отупело смотрели на гранитную плиту, которой должны были закрыть яму, некоторые опустили глаза в землю. Девочки, особенно те, кто не знал Агнессу разглядывали её, Тоня Карташёва с третьего ряда за Аниной спиной тяжело сопела. Тани Рябушевой не было. Аня тоже изучала Агнессино лицо, будто не видела его никогда до этого момента по-настоящему. Оно было чуть-чуть вытянуто, щёки впали, бледность была ему привычна. Закрытые глаза сделали его неузнаваемым. Она было всё ещё прежней Агнессой Миланской только из-за разрезного пробора справа и брезгливо сложенных, неослабевших в мимике губ. Такое было её лицо во сне. На ней было что-то из чёрного шёлка, как у фашистской девочки, со стягивающим шею,стойким воротом. Аня в треугольник между чьих-то соприкасающихся плеч посмотрела туда, где были закрыты у Агнессы ключицы. «Не думаю, что она хотела, чтобы её одели так посмертно... почему он именно это платье на неё одел? Отец лучше знает свою дочь, может быть он знал её лучше, чем я?...» Аня ничего не слышала, для неё похороны прошли в полной тишине, только иногда усиливался гул в ушах. Она на какой-то момент понадеялась, что оглохла. Губы у Агнессы — с приподнятыми уголками, как карандашом нарисованные. Лицо — спокойное, незлое, уставшее. Родинка. Слева, чуть пониже губ — маленькая коричневая родинка, которую Аня не узнала. Ей казалось, что её не было, потому что она придавала лицу очень хорошую, настоящую живость. Было не возможно дать этому лицу голос, и тем не менее Соврасова хорошо помнила его, хоть и не могла озвучить им ту бледную маску, которая лежала перед ней на пурпурной подушке. Все, кто смотрели на Агнессу в этот момент, были охвачены чувством трепетания перед этим ей лишь одной подвластным злым спокойствием, перед этой завораживающей, самовлюблённой, честолюбивой покорностью, лежавшей тонким лёгким тюлем на её лице. Последнее, что Аня внимательно разглядела, когда закрывали гроб, это — маленький, багровый, и немного коричневый — под гримом — рубец, который оставил ей отлетевший осколок от стакана, брошенного Аней в шкаф в эту последнюю ночь. Рубец — над бровью, маленький, похожий на ссадину, конусообразный, он не возможен был бы на её живом лице, только на этом — совсем мёртвом и бездушном — он смотрелся почти органично, как родинка. Аня не дождалась, когда могилу стали закапывать, она пробралась лавированием через толпу и пошла к оранжевому автобусу с чёрной полосой по бортам. Её догнали. Шаги были мягкие и неторопливые. — Ты узнала меня, Аня? — Да, Маша. — Я сегодня приехала. — Зачем? — Я любила её. Соврасова опустилась на корточки, взявшись руками за живот, и подняла на Машу голову. — У неё разорвалось сердце? Оно не было слабым. Она могла сколько угодно из себя крови выпустить. — Из себя? — Аня неестественно звонко повторила вопрос, когда у автобуса заработал мотор. — Ты знаешь, о том, что она приняла сверх дозы снотворного? Аня поднялась с корточек: — Что ещё? — Вскрытие показало, Аня. Я ведь ей говорила. Я предупреждала её, а она говорила, что с жизнью нужно играть. Она всегда хотела попробовать смерть, но неужели она думала, что из неё вернётся? Это было самоубийство... — Она не способна была пойти на такое, — ответила быстро Соврасова, откинувшись плечом на грязный автобус. Её очень бледное лицо не выражало ничего, кроме какого-то еле заметного, но, всё-таки, влиятельного, отпечатка паранойи. Глаза блестели, как стекло и постоянно передвигались взглядом по воздуху, не оставаясь ни на одном предмете. — А она и не хотела этого. Должно быть, это было случайностью...я тоже верю, что Агнесса была выше самоубийства. Маша прищурилась и закрыла лоб ладонью — утреннее солнце показалось на огромном серо-фаянсовом небе. — Но, кто знает, что было целью её жизни, — сказала она вдруг каким-то монотонным, наблюдательным голосом. — Маша, я желаю тебе удачи, — сказала Аня на развороте — она собралась заходить в автобус. Маша неожиданно усмехнулась болезненной и глупой гримасой: — Твоя Агнесса называла меня Кассандрой, ты не знаешь, это — что? — Нет, не знаю. Посмотри в греческом словаре, — ответила Аня так устало и разбито, что 'Кассандра' испугалась, как бы она не упала на ступеньки автобуса и осталась смотреть на неё, чтобы вдруг ринуться поддержать. Аня равнодушно, убито, зло, истерично — отвернула голову. Шофёр заглушил мотор и послышались звуки радиоприёмника, который с треском транслировал классику на рояле, это был «Соловей» Брамса, исполняемый в четыре руки. Соврасова подвернула ногу на ступеньке и услышала сзади голоса. — Она — в рассудке? — Не знаю... слезинки не выронила. — Нельзя оставлять её одну. |
||
* * * Это было через четыре часа после похорон. В чистой, холодной и неживой комнате Соврасовой находились Тоня Карташёва с Таней, и Аня, уставившись в пол, в полном онемении и окоченении, сидела в кресле, держась за него неестественно выгнутыми, устремлёнными локтями в потолок, руками. От окон отходили два жёлтых прямоугольника — свет, выбивающийся из-под красных занавесок, осветивших всю комнату в розово-алый тон. В открытой ванне шумно капала вода. Таня посмотрела на Анины ладони, заклеенные аптечным пластырем и откинулась на спинку стула, стоявшего рядом с абсолютно пустым письменным столом. — Аня, — позвала она. — Вы идите, пожалуйста, — незамедлительно ответила первая всё в той же сдавленно-страстной интонации, которой она отвечала вот уже последние четыре часа. — Нет, мы не оставим... — Оставляйте... оставляйте меня быстрее. Не нужно здесь вам находиться, — она повторила последнюю фразу по-очереди ударяя на каждое слово. Прослушав эту рецитацию четыре раза, они переглянулись и Карташёва медленно встала на затёкшие ноги, а Таня испуганно задвинула стул. Они бесшумно прошли мимо недвижимой Ани и застыли в углу комнаты у двери. — Всё-таки... — Нет, нет, нет... — всё с той же чудодейственной интонацией сказала Соврасова. Карташёва вышла и вывела за собой в след Таню — в прихожую, более тёмную, чем комната. Аня медленно пустила руку в карман лежавшей рядом на кресле кофты. В этой синей кофте она была последний раз у Агнессы, поэтому ей не захотелось убирать её в шкаф. Она теперь имела особое значение для Ани. Её рука нащупала два мягких пакетика и она, вытащив их, поднесла к лицу, чтобы посмотреть ближе. Это было двести грамм снотворного — каждый пакет — по сто грамм. Порошок был мягкий и густой, как мука. Аня понюхала пакетики. Это снотворное, как она и предполагала, оказалось сильным и очень быстродействующим. Смертоносный порошок теперь, при ближнем рассмотрении, вызывал в ней страх: она до последнего момента не верила в его окончательное действие. — Аня, — глухо прозвучал Тонин голос из коридора. Соврасова резко, выгнув шею, повернула лицо и посмотрела на полуоткрытую дверь комнаты. — Свет включите, — громко произнесла она, — включите свет... Тоня Картошёва подошла к двери комнаты. — Включите свет, — ещё раз попросила Соврасова, — мне нужен свет. Тоня нажала двумя пальцами на кнопку выключателя. Аня вскинула голову и пристально посмотрела на неё: перед ней стояла Агнесса Миланская с толстым змеевидным пробором на правую сторону и, держа руку на выключателе, смотрела на неё своими стеклянными, чёрными глазами. КОНЕЦянварь 1997- май 98 гг.Шерен Людмилаглавы 1-16. |
||||||
copyright 1999-2002 by «ЕЖЕ» || CAM, homer, shilov || hosted by PHPClub.ru
|
||||
|
Счетчик установлен 14 ноября 2000 - 311